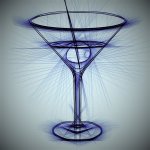Сказка - ложь окончание

Книги / Необычное
Я должен скопить «минутки», решаю, что бы там ни говорила Соня. Одна у меня уже есть — я не пил сегодня пиво. Темнота сгущается, и купить пирожок я не успею. Значит, еще две. Три «минутки» - не Бог весть какой капитал, но для начала неплохо. Дальше легче пойдет. Надо только поспешить со сказкой — а то останусь ни с чем.
Заболтался, болван, и забыл, для чего пришел.
- Ну, давай сюда свою сказку, - смеется Соня.
- Ты все-таки читаешь мысли?
- Нет, это ты думаешь слишком громко.
- Хорошо, пусть так. Слушай. «Сказка о расколотом солнце». На этот раз — короткая, иначе не успею до ночи и нас сожрут чудовища.
- Давай-давай, не тяни кота за хвост, - торопит меня Соня, и я принимаюсь рассказывать.
Это сказка о маленьком смелом народе, который жил в долине семи рек и растил хлеб на своей земле, под своим солнцем. Но вот из-за гор пришли кочевники, вооруженные пиками и саблями. И было их столько, что на каждого землепашца приходилось по десять вражеских солдат и одна боевая колесница, и многие пали в неравном бою. Те же, кто остался, сжигали свои поля и разоряли амбары. Только случай помешал им запрудить семь рек и затопить долину, но солнце, чтобы не досталось врагу, они сняли с неба и раскололи на миллион кусочков размером со свечу. Каждая семья взяла себе один и схоронила — до лучших времен.
Осколок солнца горел одинаково ровно на окне или в темном погребе, в сыром чулане, в сундуке, в печке и даже под ватным одеялом. Он давал свет и тепло, но не поджигал ничего вокруг. На нем можно было сварить обед или вскипятить чайник. То есть, в хозяйстве это оказалась весьма полезная штука.
Негасимые клубочки пламени ценились на вес золота — если не дороже, потому что весить-то они почти ничего не весили. Их передавали по наследству, дарили на свадьбы и юбилеи.
А долина как погрузилась однажды во мрак, так и пребывала в нем. Скудели почвы. Обильные травы сохли и вырождались. Деревья клонились к земле, искривлялись, лысели кронами. На месте некогда тучных лугов раскинулись ни на что не годные пустыри, заросшие колючками. Гибли сады. Реки затягивались красными водорослями, и если бы не темнота, могло показаться, что вместо воды в них течет кровь. Овцы и козы таяли на глазах, а свиньи дичали, превращаясь в хищных и опасных зверей. Но люди и в ус не дули. «Чем хуже, тем лучше», - говорили они и, плюнув на земледелие, занялись охотой и рыболовством. В мутной воде кишмя кишели съедобные пиявки в три пальца толщиной и гибкие, слепые угри, похожие на обрезки садового шланга. Жителей долины не смущали ни темнота, ни холод — ведь почти в каждом доме сияло свое собственное — комнатное — солнышко.
«Да ну их совсем! Никудышные людишки, бесплодная земля, нечего нам тут делать», - решили, наконец, варвары и, помолясь своим богам, укатили на восток. Над главным пустырем долины взвился разноцветный флаг Семиречья. Свобода! К флагу со всех сторон стекался народ — мужчины, женщины, дети... Они шли с непокрытыми головами, неся в ладонях крохотные огоньки — холодные свечи, которые не обжигали, а бережно грели. Несли и ставили их рядом друг с другом, так что получался круг. Искорка к искорке, лепесток за лепестком — на пустыре медленно распускался огромный пламенеющий цветок.
Миллион огненных частичек горели рядом, но не соединялись в светило, не восходили на небо — расколотое солнце, как было, так и оставалось расколотым. Люди молча стояли и ждали. Но вот среди обитателей долины поднялся ропот.
- Ничего не получается... Что не так? Почему ничего не выходит? Кусков не хватает! Кто утаил свой?
Шумело людское море.
Кто-то сказал:
- Это пекарь. Утром, когда все радовались, он что-то прятал в подвал.
- Да! - подхватил второй. - Он не принес свой осколок.
А прочие возражали:
- Принес, но у него в семье было два. Один уже имелся, а другой — приданое невестки.
С кулаками они наступали на пекаря. Бедняга пытался спорить, мол, все, что имел — отдал, а в подпол убирал банку маринованных пиявок, но ему никто не верил. Несчастному быстро заткнули рот, а для верности еще и скрутили руки ивовыми прутьями.
Толпой двинулись к пекарскому дому. Сперва обыскали подвал — выволокли наружу весь хлам, очень смешное и постыдное барахло. Ломаные стулья, гнилые подушки, стол на трех ногах. Какие-то пакеты, сумки, галоши, маленькая деревянная табуреточка, черная от времени и сырости. А еще приличная семья. Все покрошили в лоскуты и мелкую щепку, затем принялись громить этажи. Люльку младенца — и ту не пощадили, разобрали на дощечки, а куда ребенка дели — сами не поняли. Мать вот бегала вокруг, кричала... Ума, должно быть, лишилась.
Ничего не найдя, подпалили дом. Пока он горел, ярко, будто тысяча солнц, казалось, что вот они — осколки. Полыхают сквозь огненную завесу, будто солнечные птицы, рвутся на волю из тугой клетки. Бери их голыми руками. А как опало пламя, видны стали черные угли, россыпи золы, фарфоровые черепки да кошачьи кости.
И снова выкликнул кто-то из толпы:
- Да что пекарь? Нет у него ничего и не было. Пекарь — честный человек. Бедняк — наш брат. А вот мэр...
- Ату его! - всколыхнулась людская масса.
Мэр, конечно, сопротивлялся. В тюрьму, грозил, засажу. Это, говорил, бунт черни, восстание против законности и порядка. Много сказал умных и правильных слов — ничего не помогло. Сожгли и его дом.
Многие в ту ночь лишились крова. Еще недавно уютная и сытая долина семи рек напоминала поле битвы. Всюду развалины и пожарища. А люди, осознав, что усилия их бесполезны, тихо стояли вокруг пустыря и смотрели на свое расколотое солнце.
- А ведь и правда, - подал голос какой-то старичок. - Если разбить посуду, она не срастется сама. Тут нужен специальный клей.
«Клей... - прошелестело по долине. - Какой клей? Нет такого клея, чтобы склеить солнце! А если и есть, мы его не знаем... Все осколки на месте, а толку нет. Видно, жить нам до скончания веков в темноте, ходить с фонарями и есть пиявок!»
Бесконечно длилась ночь. Люди разошлись по домам — у кого остался. Другие пристроились у соседей или сложили времянки из обломков, горелых балок и сухих колючек. Обвисло на древке пропитанное росой знамя Семиречья, а вокруг него горел миллион свечей, целый лес огненных саженцев, колеблемых ветром.
И никто не видел бредущего через пустырь мальчугана лет пяти или шести. Он никуда не торопился, потому что мама его нянчила крохотную сестренку, а папа строил шалаш. Впервые в жизни мальчишке разрешили погулять одному, и вот он шел, и насвистывал песенку, приближаясь к разбитому солнцу, а в ладони у него лежал светлячок.
- Знаешь, - тихо говорит Соня, и черты ее лица расплываются в темноте, - а ведь это как будто о гадесе. У нас нет солнца, может, оно где-то лежит, расколотое... На пустыре, в зарослях чертополоха.
Улыбаюсь ободряюще, хотя и понимаю — моей улыбки она не видит. Туман, плывущий от реки, поднялся выше человеческого роста. Теперь мы друг для друга всего лишь силуэты, неясные, призрачные... Расцепи руки и потеряешься навек в черной, студенистой мути. Заблудишься, растворишься в ночи, станешь болотным огнем, и никогда не найдешь дороги назад.
- Все может быть. Но вообще-то, это всего лишь сказка.
- Но зачем-то ты ее рассказал?
- Как зачем? А «минутка»? - хочу пошутить, но стыдливо замолкаю.
На берегу реки забвения любое веселье кажется святотатством.
- Да, ты прав. «Минутка», - откликается Соня и делает шаг мне навстречу.
Мир исчезает, и мы — вместе с ним. Остаются только два человека в объятиях друг друга. Ее губы солоноваты от слез, и мои, наверное, тоже. Мы плачем от радости, и срастаемся, как деревья, переплетаясь корнями, стволами и кронами. Мы творим какую-то совсем новую реальность, в которой нет места отчаянию и распаду, а есть только любовь. Она длится и длится, эта волшебная реальность... и почему-то становится светло, хлопает дверь подъезда и слышатся чьи-то голоса...
И все пропадает. Нет, наоборот — мир возвращается. Туман, река, огни на другом берегу и расплывчатые холмы — на нашем. Это была «минутка», а мы по-прежнему стоим, не шелохнувшись, на расстоянии вытянутой руки.
- Уф, - выдыхаю растерянно, а сам еще дрожу, и сердце колотится, как сумасшедшее, - а мне почудилось, что все происходит на самом деле.
- Оглянись, - шепчет Соня.
Резко оборачиваюсь — из кустов на нас уставились глаза. Множество глаз. Они рассеяны во тьме, как звезды по летнему небу — желтые, круглые, нечеловеческие. Горят злобой и жаждой — вытянуть все, что в нас осталось живого: чувства, мысли, отголоски давно отшумевших эмоций. Не только драгоценные «минутки», но саму субстанцию души.
Я видел людей после встречи с чудовищами — они похожи на ходячие трупы.
- Бежим, - Соня тянет меня за рубашку, и мы несемся сквозь ночь, царапая ноги о колючки и спотыкаясь о древесные корни.
Убегаем от того, что хуже смерти.
Буквально вваливаемся в помещение кнайпы и запираем окна, плотно затворяем дверь и зажигаем свет — круглые лампы над стойкой и закопченую медную люстру под потолком. Зал погружается в теплое золотое сияние. А нам все мало. Мы зажигаем свечи на столиках. Пусть будет ярко, ослепительно, красочно! Порождения тьмы боятся света.
- Еле успели, - улыбается Соня, еще бледная от испуга. - Сожрали бы меня... а зачем я тебе — пустая?
- Ты как? - спрашиваю. - Останешься здесь?
- Куда я денусь. А ты — нет?
- Я бы с радостью... но не могу. Я должен ночевать в кошачьем домике. Не знаю почему, но должен.
- Кошачий домик! - она смотрит на меня с нежностью. - Ты все-таки что-то помнишь.
- Увы, - развожу руками, - ничего. Просто там пахнет кошачьим кормом, вот я и сказал...
Мне не хочется уходить, но таинственная сила — та, что управляет этим странным миром — уже гонит меня прочь.
- Ладно, пока. Завтра увидимся, если чудовища не загрызут меня по дороге.
Соня опускает взгляд. Расправляет полотенце на стойке. Я вижу, как суетятся ее пальцы — она всегда нервничает, когда речь идет о запретном.
- Тебя они не тронут.
- Почему? Ты уверена?
- Уверена, можешь не бояться. Тебе здесь никто не причинит вреда, - она ниже пригибает голову, занавешивает лицо светлой челкой, прячется в свою скорлупу. - Ты не такой, как все.
- Почему не такой?
Молчит. Плетет косичку из бахромы.
- Скажи! Мне надо знать!
- Да, наверное, надо, - соглашается она. - Но лучше будет, если ты вспомнишь сам. Или... знаешь что? Спроси у котов.
- Разве коты умеют разговаривать?
- Умеют. Но не так, как люди. Их надо очень внимательно слушать. Правда, спроси! Они могут ответить, если захотят. Мне нельзя, а котам закон не писан. Они не подчиняются нашим правилам.
Выхожу из кнайпы в сырую, туманную ночь. Глаза чудовищ горят, как свечи на ветру, ясным, холодным огнем. Жадно мерцая, обступают меня тесным полукругом.
«Тебе никто не причинит вреда», - шепчу, как заклинание. В буквальном смысле — заклинаю темные силы не приближаться ко мне. Чудища сжимают кольцо, тянутся длинными шершавыми языками, лижут мои руки и лицо. Но я перед ними как орех в скорлупе. Скользя по поверхности, они не могут добраться до сердцевины — до сердца, в котором, как дорогое вино на дне бокала, плещется такая лакомая для них надежда.
В пирожковом ларьке закрыты ставни, но из-под них тонкой золотой ниточкой выбивается свет. Старая карга не спит — должно быть, трясется от страха, или размышляет в одиночестве, или ест, или молится. Желаю ей мысленно спокойной ночи. Пусть бабуле приснится хоть что-то хорошее — даже если из этого и не выкроить «минутку». Как же нам всем не хватает хороших снов, воспоминаний, светлых и добрых мыслей.
В кошачьем домике уютно и тепло. Вытягиваюсь на деревянном полу — сам себя ощущая большим котом — и с наслаждением кладу голову на руки. Мне чудится, что совсем рядом потрескивает печка. В ней догорают еловые дрова, потрескивая, отдают накопленный за долгие годы жар, и пахнет смолой, и кошачье мурлыканье лезет в уши.
«Эй, хвостатые друзья, - обращаюсь к ним мысленно. - Объясните мне, если можете. Кто я и зачем я здесь. И что должен делать? Мне кажется, у меня есть какая-то цель, но я забыл, какая именно. Пожалуйста. Это очень важно».
Говорю и слушаю. Затем повторяю вопрос и опять слушаю, крепко зажмурившись и всматриваясь вглубь себя. Постепенно — очень медленно, как будто ветер зарождается в листве — начинает приходить ответ. Невидимые коты говорят со мной, но не как люди. Не словами, а картинками, обрывками эмоций, образов, ощущений. Их мысли текут сквозь меня, как река... Та самая река, которая унесла мою память, мои боль, отчаяние и скорбь, теперь возвращается ко мне.
Когда на следующий день я прихожу в кнайпу, Соня в одиночестве сидит за столиком. Одетая в тонкую розовую блузку с глухим воротничком, она похожа на прилежную школьницу — не хватает только тетрадки и пенала на парте, ручек и карандашей, и стопки учебников в углу. Вместо всего этого перед ней — пустая кружка с остатками пены. Руки аккуратно сложены на столе, волосы зачесаны назад, почти серебряные в блеклом полуденном свете, а длинная челка разделена на две пряди и заправлена за уши.
- Привет, - роняю, отодвигая стул и усаживаясь напротив. - Что делаешь?
- Жду.
- Кого или чего?
Она поднимает глаза — печальные и тусклые, как зола, перемешанная с водой, как пепел, как дорожная пыль. Странное чувство. Мы как будто встретились после долгой разлуки. Нет, со вчерашнего вечера Соня не изменилась. Это я — невольно сравниваю ее с той, прошлой.
- Ты поговорил с котами?
- Если это можно так назвать. Я не все разобрал. Знаешь, как мозаика или, скажем, паззл. Как будто передо мной вывалили кучу разноцветных фрагментов, а инструкцию по сборке — не дали... Вот и сижу, мучаюсь, пытаюсь увидеть всю картинку целиком — и не знаю, что она такое? Где начало и где конец, причина и следствие... Все так перепутано. О чем она, вообще, должна быть? Но главное я все-таки понял.
Соня медленно кивает.
- Хорошо...
- Хочу спросить тебя только об одном? Ответишь?
Она беспомощно пожимает плечами.
- Постараюсь.
- Соня, как я выгляжу?
- У тебя белые волосы, белые ресницы и белые брови.
- Правда? - шепчу. - Так я и думал. Тогда все сходится... Ну что ж. Пора, наверное, рассказать последнюю сказку.
- Последнюю?
- Да. Пусть это будет хорошая сказка с плохим концом.
Наконец-то, мне удается выманить улыбку на ее губы. Впервые за сегодня. Сонино лицо оттаивает и расцветает — а я на какое-то время забываю, что на самом деле она просто тень.
- Для нашей главной сказки ты мог бы придумать название получше!
- Куда уж лучше, - усмехаюсь, довольный, что сумел ее развеселить. Хотя повод для веселья — сомнительный. - А чем тебе это не нравится? У сказки под названием жизнь всегда плохой конец. Разве нет?
Она грустно качает головой.
- Конец — это всегда печально. Но не всегда жизнь обрывается на полуслове.
Молчу, задумчиво разглядывая ее тонкий профиль. Что тут скажешь? Она права.
- Ну, хорошо, - вздыхаю, - пускай называется сказка-ложь.
Соня возражает.
- Как раз сегодня мне хотелось бы послушать правду.
- Увы. Сказка никогда не бывает правдивой. В ней есть зерно истины — как то слово, написанное на бумажке. Табличка с одним единственным словом, грезящим ложью, красивой и складной выдумкой. Вот что такое сказка. Уж я-то в таких вещах разбираюсь. Столько наврал в свои годы, что тебе и не снилось. А будешь говорить правду — получишь лохматый и бесформенный кусок жизни, без сюжета и смысла.
- Ладно-ладно, - она шутливо отмахивается от меня. - Тебя не переспоришь. Рассказывай. Посмотрим, что выйдет — ложь или нет.
Мы наклоняемся друг к другу через столик и тесно переплетаем пальцы. Держи меня крепче, Соня. Не отпускай — мне осталось досказать совсем немного. А там, и в самом деле, посмотрим, что получится.
Бывает так, что человека ломает сущая мелочь. Именно она оборачивается тем камнем на пути, споткнувшись о который, получаешь сотрясение мозга, а то и дырку в черепе. То, что люди зовут суеверием — будь то мертвая птица на дороге или черная кошка — становится грозным знаком беды. После него в размеренную и благополучную жизнь врывается непредсказуемое. Зазевавшийся стрелочник неправильно переводит стрелку и поезд твоей судьбы уходит на аварийный путь.
- От мечты до счастья — один шаг! - говорила моя Софи. - Нет, полшажочка. Надо только уметь мечтать и знать, чего ты хочешь. Надо верить, что весь мир — у твоих ног, и так и будет.
Читала ли она книжки о позитивном мышлении? Или унаследовала оптимизм от родителей? Отец моей жены рано умер, но я знал ее маму и бабушку – веселых и добродушных, не поддавшихся ударам судьбы. А может, Софи, как истинная женщина, интуитивно постигала законы мироздания? Так или иначе, но вера ее, хоть и казалась пафосной, на самом деле была искренней и чистой, и шла как будто изнутри, из каких-то неведомых глубин души.
В общем, я так и не понял, откуда взялась эта ее теория — но она работала. Софи, точно сказочный эльф, шла босиком по солнечному лучу, и стоило ей чего-то захотеть, как желаемое само плыло в руки.
Она могла бы намечтать тюльпаны на рождество. Подснежники в начале января. Снегопад в июне. Или дождь из маргариток.
- Все, что ты видишь вокруг, - объясняла мне Софи, когда долгими, уютными вечерами мы пили какао на нашей маленькой кухоньке, - ты создаешь своими мыслями. Как подумаешь о хорошем — тут же оно и случится. Вселенная только и делает, что ищет повод нас порадовать. Ведь мы — ее любимые дети.
Она сидела, подперев щеку рукой, и смотрела мимо меня — в синее окно. Помню до сих пор — тесное пространство кухни и мы, запертые между плитой и буфетом, стынущие чашки на столе и темно-синий заоконный свет.
Иногда я подтрунивал над ней, реже — спорил, и то скорее забавляясь, чем желая что-то доказать, но чаще просто слушал и усмехался в усы. Ну, это в фигуральном смысле. Усов я не ношу.
Бывало, я завидовал ее жизнелюбию. Видеть в каждой пчелке, майском жуке или раскрывшемся листочке добрый знак — для этого надо иметь особый талант. Вот, солнышко выглянуло из-за туч. Ну, выглянуло и выглянуло. Так бы я сказал. Погода сегодня такая — переменная облачность. А Софи улыбается загадочно. Говорит, ну, жди письма из редакции с доброй вестью. Я в то время баловался рассказиками — парочку даже напечатали в одном третьесортном журнале.
Вишневые почки раскрылись в конце февраля. Рановато, я бы заметил — да и забыл. Подумал бы еще мельком, жаль, замерзнут деревья, как ударят поздние морозы. А Софи ликует: бабуле станет лучше! У ее бабушки сильно отекали ноги.
Какая связь, казалось бы — солнце, публикация, вишня, бабушка?
А моя дорогая жена смотрела на меня ласково, как на несмышленого ребенка, и говорила:
- Мир — живой и откликается на наши мысли. Ты только приглядись к нему, прислушайся повнимательнее. Его можно читать, как книгу.
Ну, что тут возразишь? И ведь правда, из редакции в тот же день пришло письмо, и бабуля позвонила — мол, полегчало ей.
А уж если радуга взошла после дождя — так это восторг! Феерия радости!
Ветка березы качнулась — уронила хрустальную каплю... Две бабочки-павлинки станцевали в небе...
Стояло первое по-настоящему теплое апрельское воскресенье. Измученные затяжным межсезоньем, люди высыпали на улицы. Старички с палочками и тележками для ходьбы, мамаши с детьми, отвязные подростки с телефонами в руках разбрелись по скверам и паркам. Стало шумно и весело. Мы с женой собирались за город, на пикник, но в последнюю минуту передумали. Захотелось побыть частью толпы... странное желание, если разобраться. Я ненавижу толпы, и Софи тоже их не любила. Обычно мы, не сговариваясь, выбирали для прогулок тихие уголки. Почему в тот день нас потянуло в парк? Может быть, судьба. От нее, как известно, не уйдешь.
Лишь только мы вступили под прозрачные березовые своды, как почти сразу же наткнулись на детский праздник. Лотки с мороженым, вертушки с сахарной ватой, надувные бассейны и горки, большие поролоновые кубики, сложенные на траве, пирамидки и самокаты... и, конечно, массовики-затейники. Там были даже переносной тир и кукольный театр. Толкотня, смех, визг, окрики взрослых и милые, перемазанные шоколадом мордашки. Я, взрослый человек среди малышей, чувствовал себя неловко. А Софи — хоть бы что. Она сама каким-то чудом обратилась в маленькую девочку. В ту самую девчонку с задорными хвостиками, которая в детском садике завязывала мне шнурки. Дралась из-за меня с мальчишками, искала мои пропавшие тетрадки — я лет до восьми был таким разиней, что терял все на свете. Кормила меня на переменках бабушкиными пирожками, слушала мои сказки, подсказывала мне на уроках, когда я запинался у доски и со страху начинал жевать рукав. Боже мой, думал я иногда, ведь мы знаем друг друга всю жизнь. Сколько себя помню — она была рядом, заботилась, помогала, утешала. Без нее я и не человек вовсе, а половинка человека.
И знаешь, что странно? Я так ни разу и не объяснился ей в любви. Это казалось само собой разумеющимся, что мы вместе, неразлучны, как правая и левая рука, и что так будет всегда. О чем говорить? Все равно, такую близость, такое удивительно родство душ словами не опишешь.
- Ну что, малышка, - подтрунивал я, - пойдешь смотреть Касперле?
- Обязательно, - ответила она серьезно, а огненные чертики в глазах так и пустились в пляс. - Но сперва я хочу шарик. Спорим, будет зеленый? Если зеленый — поедем летом в Испанию, а если красный — осенью выйдет твоя книжка! Синий, - она загибала пальцы, - выиграем в лотерею...
Под облезлым платаном и чуть в стороне от всеобщего празднества, стоял фокусник в парике морковного цвета и раздавал детям разноцветные шарики в форме зверюшек. К нему стояла небольшая очередь — ребятишки лет пяти-восьми вместе с родителями.
- А желтый? - засмеялся я.
- Хм... желтый. А это — мой маленький секрет. Узнаешь, когда придет время.
- Ну, хорошо.
Мы пристроились в конец очереди.
Фокусник в оранжевом парике выхватывал из корзины похожие на тряпочки шарики и надувал узкую колбаску, скручивал и перевязывал узлами — пока не выходили забавная собачка, жираф или птица с длинной шеей. Раз-два... Его пальцы так и мелькали, и совершенно невозможно было отследить последовательность движений. Попутно он успевал улыбаться детям, подмигивать их мамам и рассказывать длинную историю без начала и конца о похождениях страусенка Додо.
«А ведь это похоже на лотерею, - успел я подумать. - Не знаешь, что тебе выпадет».
По идее, каждый мог бы попросить: «Сделайте мне, пожалуйста, собачку» или «хочу жирафика!», но малыши ждали молча, с серьезными лицами.
- А сейчас юная дама получает... - провозгласил фокусник, - получает... страуса!
Девочка, стоявшая перед нами, приняла из его рук синюю шарико-колбаску и критически ее оглядела.
- Это Додо? - повернулась она к матери, полноватой крашеной блондинке.
Та важно кивнула. Конечно, Додо, кто же еще. А фокусник уже смотрел на мою жену. С застывшей полуулыбкой, слегка наклонив голову, он как будто принюхивался, настороженно втягивая воздух через плоские ноздри. Так хищник выслеживает добычу. И действительно, во взгляде его немигающих желтоватых глаз мне почудилось что-то волчье.
Ни слова ни говоря, он вытянул из корзины шарик и, выдув колбаску, перекрутил, перевертел, так, что получились туловище, голова, остренькая мордочка, уши и хвост. Безногая крыса? Впрочем, кто ее разберет.
Шарик оказался черным.
Софи взяла подарок и, не оборачиваясь, пошла прочь. Я догнал ее и поймал за руку.
- Видишь, а мы с тобой не угадали. Так всегда и получается — думаешь, а как оно будет, а выходит совсем по-другому.
Она молчала. Плечи поникли — Софи завернулась в них, как птица в сложенные крылья.
- Значит, в Испанию не поедем, - произнес я бодро, - а вместо этого махнем в Италию или на Кипр. Главное, тепло и море. Ну, а книжка моя? Да и черт с ней!
А про себя добавил: «И вообще, глупости это. Каким надо быть ребенком, чтобы расстраиваться из-за подобной ерунды».
Я еще подумал, наверное, переживает из-за своего «маленького секрета».
- Но почему? - Софи резко остановилась, сжав до боли мою руку. Зрачки большие, испуганные... На лицо словно легла тень. - Почему он черный?
- Наверное, потому, что мы взрослые, - я пожал плечами. - Цветные — для детишек. А какая разница?
Мы неспешно брели к выходу из парка, прочь от шумного празднества.
- Я читала про него, - медленно проговорила Софи. - Это фокусник-смерть. Он появляется на детских утренниках и народных гуляниях, хотя никто его не приглашает. Всегда в рыжем парике и полосатых штанах. И тот, кому он вручит черную метку, через несколько часов умрет.
- Девочка моя, - я даже рассмеялся. - Поменьше читай дурацких книжек! То есть... читать,
конечно, здорово, но не принимать же их всерьез? Ведь это абсурд!
Софи рассеянно кивнула, и до самого дома мы не проронили больше ни слова.
Что тогда произошло? Я так и не понял и до сих пор не понимаю. Способен ли человек сам на себя навести порчу? Не подхватила ли моя жена что-то вроде информационного гриппа? Вирус еще более незаметный, но не менее разрушительный, чем реальная инфлюэнца... И заразиться им можно от чего угодно — будь то газетный заголовок или роман Стивена Кинга. Или разочарование оказалось слишком глубоким? Каким бы пустячным ни был повод, но этот жуткий момент, когда судьба вместо цветного протягивает тебе черный шарик — как его пережить? Мою любимую точно подменили. До вечера она побледнела и осунулась, став похожей на сдутый шарик, и выглядела совершенно больной. Напрасно я пытался ее развеселить или хотя бы просто отвлечь, рассказывая анекдоты, отыскивая смешные картинки в сети... даже начал сочинять сказку. Хотя какое уж тут вдохновение — меня съедала тревога. Софи все дальше уходила в тяжелые раздумья.
К утру она умерла. А я так и не успел признаться ей в любви.
- Вот такая история, - заканчиваю неловко и отвожу взгляд. - Как говорится, хотите верьте, хотите нет.
Чувствую, как Сонины пальцы теплеют в моей ладони. Словно каким-то чудом в ее бесплотное тело ненадолго возвращается жизнь. По бледным щекам зарей растекается румянец.
- Что ж, наверное, еще не поздно, - она слегка усмехается. - Может быть, затем ты и тут.
- Не поздно что?
- Признаться.
Будь мы оба живы, я непременно привлек бы ее к себе и поцеловал в губы. Она бы со вздохом прижалась к моей груди. Мы обнялись бы, и долго не размыкали объятий, слушая биение родного сердца. Мы нашли бы друг для друга много прекрасных и небанальных слов.
Но в гадесе, для всего этого нет ни места, ни времени. Поэтому я еще крепче стискиваю ее слабую руку и говорю просто:
- Я люблю тебя, Соня.
- И я тебя, - эхом откликается она.
Слова, которые в мире живых полны надежды, здесь звучат надгробной эпитафией. Мы по-прежнему сидим за столиком, а за окном сгущаются сумерки. Незаметно, как бы исподволь, без вечерней загадочной игры красок — постепенно исчезает свет.
- И все-таки ты соврал, - улыбается Соня, и в полумраке ее глаза блестят. - Все было совсем не так. Этот случай с фокусником — всего лишь эпизод. Под утро я не умерла, а забыла о дурацком черном шарике, даже если сначала и огорчилась немного. А когда через месяц заболела раком, то да... мелькнула мысль о знаках. Мне уже за пару недель до диагноза стало беспокойно на душе. Какие-то чудные совпадения пошли, приметы, сны. Синичку мертвую нашла на крыльце. И еще, я тебе не рассказывала, но буквально накануне мне приснилось, как я покупаю вырезку в мясной лавке. И ощущение такое неприятное — будто сосет под ложечкой. Не боль, а странная такая пустота. На прилавке — огромные куски мяса, свиная голова, уши, языки. Мозги — в лоточке. И по стенам окорока развешаны... И этот багровый мясной свет, от которого все внутренности выворачивает. Я проснулась, зная, что больна. Правда, не думала, что смертельно.
- Это же сказка, - пытаюсь возразить, но Соня меня точно не слышит.
- И характер мой ты описал не верно. Этакой бабочкой, что порхает с цветка на цветок. Как будто я боли не знала... Когда бабуля умерла, я три дня плакала не переставая. Хотя и понимала, что время ее пришло, что это естественный ход вещей — а все равно, так плохо, что хоть вой.
- Это сказка, - повторяю упрямо. - Конечно, в жизни все не так. Или не совсем так. А бабушка твоя была хорошей.
Соня кивает, глотая слезы, и мы оба погружаемся в воспоминания. Своего рода минута молчания о прекрасном человеке, добром ангеле-хранителе наших детских лет.
Она ушла в неполных девяносто восемь лет и почти до самого конца управлялась с нехитрым хозяйством — старый бревенчатый домик, черная кошка по имени Багира и три огуречные грядки. Носила воду из колодца, по вечерам жгла керосинку — в глухомани, где она жила, не было ни электричества, ни водопровода. Сперва дочь, а потом — мы с Соней привозили ей продукты из города. Вспоминаю ее усталые руки со вздутыми венами, все в пигментных пятнах, и бодрую улыбку, которая как солнце освещала все вокруг, и пирожки с капустой, чай со смородиновым листом, уютные семейные вечера...
- Береги мою девочку, - говорила мне незадолго до нашей с Соней свадьбы.
Прости, добрая бабушка. Не уберег. Да и кто бы сумел?
После смерти старушки остался дом и осиротевшая кошка. Сначала мы с женой хотели взять Багиру себе, но привыкшее к свободному выгулу животное страдало бы в тесной городской квартире. О том, чтобы отдать кошку в приют не могло быть и речи.
В конце концов я сделал вот что. Всю мебель перетащил на чердак, а кое-какие памятные вещи — салфетки, вышитые бабушкиными руками, фотографии, Сонин детский портрет, фарфоровую куколку в старинном платье — вывез к нам. Больше ничего ценного в доме не оставалось. И тогда я поставил на первом этаже кормушки и миску с водой, и распахнул дверь, подперев ее колышком, чтобы не закрывалась. Так Багира могла приходить и уходить, когда ей вздумается. Каждые выходные, а бывало, что и в середине недели я приезжал в бревенчатый домик на краю мира, насыпал корм и менял воду в поилке. Но столовалась в импровизированном кошачьем пенсионе, разумеется, не только бабулина любимица. От четвероногих постояльцев не было отбоя. Хвостатый люд обживал гостиную и террасу, летом грелся на солнышке — на крыльце, а зимой — жался к печке, которую я в самые лютые морозы топил. Дикие коты сбегались со всей округи. Иногда я насчитывал до двадцати пушистых, урчащих зверюг. Попадались среди них и домашние — недолюбленные и недокормленные. Я не разбирался, кто есть кто. Пришел — добро пожаловать. Будь моим гостем.
Старушка Багира ненадолго пережила свою хозяйку. Но и после ее смерти я продолжал наполнять кормушки. Не только из жалости к хвостатым — где-то в глубине души я надеялся замолить таким образом наши с Соней грехи и вырвать жену из лап болезни. Напрасно. Ей становилось все хуже и хуже.
Похоронил я Сонечку поздней осенью, когда мокрый ветер рвал с деревьев последние желто-бурые листья. Отмучилась моя любимая... А для меня начались страшные и тоскливые вечера, когда я, как раненый зверь, забившись в свою нору, чуть ли не выл от фантомной боли. Душа разделилась надвое, саднила и кровоточила. Словно ножом полоснули по живому.
К зиме рана как будто начала затягиваться. Застыла природа, скованная холодами. Замерз пруд, ледяным, звонким, как хрусталь, панцирем покрылась земля. И у меня внутри все оцепенело. Боль поутихла, но жить с половинкой души я так и не научился.
Помню февральские морозы, злую поземку и яркое солнце, не только не дающее тепла, но как будто отбирающее его у земли. Маленькое и красное, оно замерло в небе, как полюс холода. Я шел со станции сквозь лес, мечтая упасть в сугроб и не двигаться. Говорят, смерть от холода — легкая смерть. Но в сумке у меня лежал пакет с кошачьим кормом и бутылка с водой. Я думал о котах, которые будут ждать у холодной печки, рядом с пустой кормушкой — и упрямо двигался вперед.

Бревенчатый домик тонул в снегу, и я впервые отметил про себя — какой же он маленький и покосившийся. Точно согбенный горем. Не зря говорят, что у дома и человека — одно сердце на двоих. Первым делом я нарубил дрова и растопил печь. Насыпал корма в кормушки, долил в миску воду. Зверьки жадно набросились на еду. Я смотрел на них, привалившись спиной к печке, как они чавкают, вылизывают лапы и спину, чешутся. По телу медленно разливалось тепло. Набрякшие от невыплаканных слез веки тяжелели, перед глазами стояла красная пелена. Вокруг меня медленно засыпали хвостатые питомцы. Коты — стражники гадеса. Я скользнул за их снами и очутился здесь — на берегу черной реки забвения.
Соня грустно кивает, словно опять прочитав мои мысли.
- Тебе пора, - говорит она. - Коты просыпаются.
- Не гони меня, - прошу. - Коты могут спать долго.
- Долго, но не вечно... Иди, - торопит она меня и встает. - Мы еще увидимся. Когда-нибудь. И пускай это случится не скоро. Я желаю тебе долгой и счастливой жизни. Правда.
Я тоже встаю и устало бреду к двери, но на полпути останавливаюсь.
- Погоди. Я вспомнил, зачем я здесь, - говорю поспешно, потому что в уши мне уже льется тихое мурлыканье. - Я вернулся за тобой, как Орфей за Эвридикой. Мы можем уйти вместе — сейчас или никогда. Путь открыт. И тогда ты получишь второй шанс. Мы оба получим второй шанс.
Соня грустно качает головой.
- У нас ничего не получится.
Но я продолжаю умолять ее — мою жену, мою любимую, мою судьбу.
- Давай попробуем. Ведь у Орфея почти получилось, может, выйдет и у нас. Просто следуй за мной. А я не повторю ошибки Орфея и не оглянусь. Ни за что не оглянусь!
- Хорошо, - соглашается она. - Давай попробуем.
Я иду сквозь кошачьи сны, и мир вокруг постепенно оживает, из тускло-серого становится радостным и цветным. Он струится, наполняясь движением и звуком, и мурлычет голосами моих пушистых друзей:
- Спасибо, что даешь нам корм и кров. Только, пожалуйста, не забывай иногда погладить нас и почесать за ушами. Дай нам имена. Мы не хотим оставаться ничьими, злыми и дикими. Пусть мы будем твоими котами, а ты — нашим человеком. А когда пробьет час, мы вместе уйдем по радуге в страну, где никогда не заходит солнце. В край вечной любви.
Заболтался, болван, и забыл, для чего пришел.
- Ну, давай сюда свою сказку, - смеется Соня.
- Ты все-таки читаешь мысли?
- Нет, это ты думаешь слишком громко.
- Хорошо, пусть так. Слушай. «Сказка о расколотом солнце». На этот раз — короткая, иначе не успею до ночи и нас сожрут чудовища.
- Давай-давай, не тяни кота за хвост, - торопит меня Соня, и я принимаюсь рассказывать.
Это сказка о маленьком смелом народе, который жил в долине семи рек и растил хлеб на своей земле, под своим солнцем. Но вот из-за гор пришли кочевники, вооруженные пиками и саблями. И было их столько, что на каждого землепашца приходилось по десять вражеских солдат и одна боевая колесница, и многие пали в неравном бою. Те же, кто остался, сжигали свои поля и разоряли амбары. Только случай помешал им запрудить семь рек и затопить долину, но солнце, чтобы не досталось врагу, они сняли с неба и раскололи на миллион кусочков размером со свечу. Каждая семья взяла себе один и схоронила — до лучших времен.
Осколок солнца горел одинаково ровно на окне или в темном погребе, в сыром чулане, в сундуке, в печке и даже под ватным одеялом. Он давал свет и тепло, но не поджигал ничего вокруг. На нем можно было сварить обед или вскипятить чайник. То есть, в хозяйстве это оказалась весьма полезная штука.
Негасимые клубочки пламени ценились на вес золота — если не дороже, потому что весить-то они почти ничего не весили. Их передавали по наследству, дарили на свадьбы и юбилеи.
А долина как погрузилась однажды во мрак, так и пребывала в нем. Скудели почвы. Обильные травы сохли и вырождались. Деревья клонились к земле, искривлялись, лысели кронами. На месте некогда тучных лугов раскинулись ни на что не годные пустыри, заросшие колючками. Гибли сады. Реки затягивались красными водорослями, и если бы не темнота, могло показаться, что вместо воды в них течет кровь. Овцы и козы таяли на глазах, а свиньи дичали, превращаясь в хищных и опасных зверей. Но люди и в ус не дули. «Чем хуже, тем лучше», - говорили они и, плюнув на земледелие, занялись охотой и рыболовством. В мутной воде кишмя кишели съедобные пиявки в три пальца толщиной и гибкие, слепые угри, похожие на обрезки садового шланга. Жителей долины не смущали ни темнота, ни холод — ведь почти в каждом доме сияло свое собственное — комнатное — солнышко.
«Да ну их совсем! Никудышные людишки, бесплодная земля, нечего нам тут делать», - решили, наконец, варвары и, помолясь своим богам, укатили на восток. Над главным пустырем долины взвился разноцветный флаг Семиречья. Свобода! К флагу со всех сторон стекался народ — мужчины, женщины, дети... Они шли с непокрытыми головами, неся в ладонях крохотные огоньки — холодные свечи, которые не обжигали, а бережно грели. Несли и ставили их рядом друг с другом, так что получался круг. Искорка к искорке, лепесток за лепестком — на пустыре медленно распускался огромный пламенеющий цветок.
Миллион огненных частичек горели рядом, но не соединялись в светило, не восходили на небо — расколотое солнце, как было, так и оставалось расколотым. Люди молча стояли и ждали. Но вот среди обитателей долины поднялся ропот.
- Ничего не получается... Что не так? Почему ничего не выходит? Кусков не хватает! Кто утаил свой?
Шумело людское море.
Кто-то сказал:
- Это пекарь. Утром, когда все радовались, он что-то прятал в подвал.
- Да! - подхватил второй. - Он не принес свой осколок.
А прочие возражали:
- Принес, но у него в семье было два. Один уже имелся, а другой — приданое невестки.
С кулаками они наступали на пекаря. Бедняга пытался спорить, мол, все, что имел — отдал, а в подпол убирал банку маринованных пиявок, но ему никто не верил. Несчастному быстро заткнули рот, а для верности еще и скрутили руки ивовыми прутьями.
Толпой двинулись к пекарскому дому. Сперва обыскали подвал — выволокли наружу весь хлам, очень смешное и постыдное барахло. Ломаные стулья, гнилые подушки, стол на трех ногах. Какие-то пакеты, сумки, галоши, маленькая деревянная табуреточка, черная от времени и сырости. А еще приличная семья. Все покрошили в лоскуты и мелкую щепку, затем принялись громить этажи. Люльку младенца — и ту не пощадили, разобрали на дощечки, а куда ребенка дели — сами не поняли. Мать вот бегала вокруг, кричала... Ума, должно быть, лишилась.
Ничего не найдя, подпалили дом. Пока он горел, ярко, будто тысяча солнц, казалось, что вот они — осколки. Полыхают сквозь огненную завесу, будто солнечные птицы, рвутся на волю из тугой клетки. Бери их голыми руками. А как опало пламя, видны стали черные угли, россыпи золы, фарфоровые черепки да кошачьи кости.
И снова выкликнул кто-то из толпы:
- Да что пекарь? Нет у него ничего и не было. Пекарь — честный человек. Бедняк — наш брат. А вот мэр...
- Ату его! - всколыхнулась людская масса.
Мэр, конечно, сопротивлялся. В тюрьму, грозил, засажу. Это, говорил, бунт черни, восстание против законности и порядка. Много сказал умных и правильных слов — ничего не помогло. Сожгли и его дом.
Многие в ту ночь лишились крова. Еще недавно уютная и сытая долина семи рек напоминала поле битвы. Всюду развалины и пожарища. А люди, осознав, что усилия их бесполезны, тихо стояли вокруг пустыря и смотрели на свое расколотое солнце.
- А ведь и правда, - подал голос какой-то старичок. - Если разбить посуду, она не срастется сама. Тут нужен специальный клей.
«Клей... - прошелестело по долине. - Какой клей? Нет такого клея, чтобы склеить солнце! А если и есть, мы его не знаем... Все осколки на месте, а толку нет. Видно, жить нам до скончания веков в темноте, ходить с фонарями и есть пиявок!»
Бесконечно длилась ночь. Люди разошлись по домам — у кого остался. Другие пристроились у соседей или сложили времянки из обломков, горелых балок и сухих колючек. Обвисло на древке пропитанное росой знамя Семиречья, а вокруг него горел миллион свечей, целый лес огненных саженцев, колеблемых ветром.
И никто не видел бредущего через пустырь мальчугана лет пяти или шести. Он никуда не торопился, потому что мама его нянчила крохотную сестренку, а папа строил шалаш. Впервые в жизни мальчишке разрешили погулять одному, и вот он шел, и насвистывал песенку, приближаясь к разбитому солнцу, а в ладони у него лежал светлячок.
- Знаешь, - тихо говорит Соня, и черты ее лица расплываются в темноте, - а ведь это как будто о гадесе. У нас нет солнца, может, оно где-то лежит, расколотое... На пустыре, в зарослях чертополоха.
Улыбаюсь ободряюще, хотя и понимаю — моей улыбки она не видит. Туман, плывущий от реки, поднялся выше человеческого роста. Теперь мы друг для друга всего лишь силуэты, неясные, призрачные... Расцепи руки и потеряешься навек в черной, студенистой мути. Заблудишься, растворишься в ночи, станешь болотным огнем, и никогда не найдешь дороги назад.
- Все может быть. Но вообще-то, это всего лишь сказка.
- Но зачем-то ты ее рассказал?
- Как зачем? А «минутка»? - хочу пошутить, но стыдливо замолкаю.
На берегу реки забвения любое веселье кажется святотатством.
- Да, ты прав. «Минутка», - откликается Соня и делает шаг мне навстречу.
Мир исчезает, и мы — вместе с ним. Остаются только два человека в объятиях друг друга. Ее губы солоноваты от слез, и мои, наверное, тоже. Мы плачем от радости, и срастаемся, как деревья, переплетаясь корнями, стволами и кронами. Мы творим какую-то совсем новую реальность, в которой нет места отчаянию и распаду, а есть только любовь. Она длится и длится, эта волшебная реальность... и почему-то становится светло, хлопает дверь подъезда и слышатся чьи-то голоса...
И все пропадает. Нет, наоборот — мир возвращается. Туман, река, огни на другом берегу и расплывчатые холмы — на нашем. Это была «минутка», а мы по-прежнему стоим, не шелохнувшись, на расстоянии вытянутой руки.
- Уф, - выдыхаю растерянно, а сам еще дрожу, и сердце колотится, как сумасшедшее, - а мне почудилось, что все происходит на самом деле.
- Оглянись, - шепчет Соня.
Резко оборачиваюсь — из кустов на нас уставились глаза. Множество глаз. Они рассеяны во тьме, как звезды по летнему небу — желтые, круглые, нечеловеческие. Горят злобой и жаждой — вытянуть все, что в нас осталось живого: чувства, мысли, отголоски давно отшумевших эмоций. Не только драгоценные «минутки», но саму субстанцию души.
Я видел людей после встречи с чудовищами — они похожи на ходячие трупы.
- Бежим, - Соня тянет меня за рубашку, и мы несемся сквозь ночь, царапая ноги о колючки и спотыкаясь о древесные корни.
Убегаем от того, что хуже смерти.
Буквально вваливаемся в помещение кнайпы и запираем окна, плотно затворяем дверь и зажигаем свет — круглые лампы над стойкой и закопченую медную люстру под потолком. Зал погружается в теплое золотое сияние. А нам все мало. Мы зажигаем свечи на столиках. Пусть будет ярко, ослепительно, красочно! Порождения тьмы боятся света.
- Еле успели, - улыбается Соня, еще бледная от испуга. - Сожрали бы меня... а зачем я тебе — пустая?
- Ты как? - спрашиваю. - Останешься здесь?
- Куда я денусь. А ты — нет?
- Я бы с радостью... но не могу. Я должен ночевать в кошачьем домике. Не знаю почему, но должен.
- Кошачий домик! - она смотрит на меня с нежностью. - Ты все-таки что-то помнишь.
- Увы, - развожу руками, - ничего. Просто там пахнет кошачьим кормом, вот я и сказал...
Мне не хочется уходить, но таинственная сила — та, что управляет этим странным миром — уже гонит меня прочь.
- Ладно, пока. Завтра увидимся, если чудовища не загрызут меня по дороге.
Соня опускает взгляд. Расправляет полотенце на стойке. Я вижу, как суетятся ее пальцы — она всегда нервничает, когда речь идет о запретном.
- Тебя они не тронут.
- Почему? Ты уверена?
- Уверена, можешь не бояться. Тебе здесь никто не причинит вреда, - она ниже пригибает голову, занавешивает лицо светлой челкой, прячется в свою скорлупу. - Ты не такой, как все.
- Почему не такой?
Молчит. Плетет косичку из бахромы.
- Скажи! Мне надо знать!
- Да, наверное, надо, - соглашается она. - Но лучше будет, если ты вспомнишь сам. Или... знаешь что? Спроси у котов.
- Разве коты умеют разговаривать?
- Умеют. Но не так, как люди. Их надо очень внимательно слушать. Правда, спроси! Они могут ответить, если захотят. Мне нельзя, а котам закон не писан. Они не подчиняются нашим правилам.
Выхожу из кнайпы в сырую, туманную ночь. Глаза чудовищ горят, как свечи на ветру, ясным, холодным огнем. Жадно мерцая, обступают меня тесным полукругом.
«Тебе никто не причинит вреда», - шепчу, как заклинание. В буквальном смысле — заклинаю темные силы не приближаться ко мне. Чудища сжимают кольцо, тянутся длинными шершавыми языками, лижут мои руки и лицо. Но я перед ними как орех в скорлупе. Скользя по поверхности, они не могут добраться до сердцевины — до сердца, в котором, как дорогое вино на дне бокала, плещется такая лакомая для них надежда.
В пирожковом ларьке закрыты ставни, но из-под них тонкой золотой ниточкой выбивается свет. Старая карга не спит — должно быть, трясется от страха, или размышляет в одиночестве, или ест, или молится. Желаю ей мысленно спокойной ночи. Пусть бабуле приснится хоть что-то хорошее — даже если из этого и не выкроить «минутку». Как же нам всем не хватает хороших снов, воспоминаний, светлых и добрых мыслей.
В кошачьем домике уютно и тепло. Вытягиваюсь на деревянном полу — сам себя ощущая большим котом — и с наслаждением кладу голову на руки. Мне чудится, что совсем рядом потрескивает печка. В ней догорают еловые дрова, потрескивая, отдают накопленный за долгие годы жар, и пахнет смолой, и кошачье мурлыканье лезет в уши.
«Эй, хвостатые друзья, - обращаюсь к ним мысленно. - Объясните мне, если можете. Кто я и зачем я здесь. И что должен делать? Мне кажется, у меня есть какая-то цель, но я забыл, какая именно. Пожалуйста. Это очень важно».
Говорю и слушаю. Затем повторяю вопрос и опять слушаю, крепко зажмурившись и всматриваясь вглубь себя. Постепенно — очень медленно, как будто ветер зарождается в листве — начинает приходить ответ. Невидимые коты говорят со мной, но не как люди. Не словами, а картинками, обрывками эмоций, образов, ощущений. Их мысли текут сквозь меня, как река... Та самая река, которая унесла мою память, мои боль, отчаяние и скорбь, теперь возвращается ко мне.
Когда на следующий день я прихожу в кнайпу, Соня в одиночестве сидит за столиком. Одетая в тонкую розовую блузку с глухим воротничком, она похожа на прилежную школьницу — не хватает только тетрадки и пенала на парте, ручек и карандашей, и стопки учебников в углу. Вместо всего этого перед ней — пустая кружка с остатками пены. Руки аккуратно сложены на столе, волосы зачесаны назад, почти серебряные в блеклом полуденном свете, а длинная челка разделена на две пряди и заправлена за уши.
- Привет, - роняю, отодвигая стул и усаживаясь напротив. - Что делаешь?
- Жду.
- Кого или чего?
Она поднимает глаза — печальные и тусклые, как зола, перемешанная с водой, как пепел, как дорожная пыль. Странное чувство. Мы как будто встретились после долгой разлуки. Нет, со вчерашнего вечера Соня не изменилась. Это я — невольно сравниваю ее с той, прошлой.
- Ты поговорил с котами?
- Если это можно так назвать. Я не все разобрал. Знаешь, как мозаика или, скажем, паззл. Как будто передо мной вывалили кучу разноцветных фрагментов, а инструкцию по сборке — не дали... Вот и сижу, мучаюсь, пытаюсь увидеть всю картинку целиком — и не знаю, что она такое? Где начало и где конец, причина и следствие... Все так перепутано. О чем она, вообще, должна быть? Но главное я все-таки понял.
Соня медленно кивает.
- Хорошо...
- Хочу спросить тебя только об одном? Ответишь?
Она беспомощно пожимает плечами.
- Постараюсь.
- Соня, как я выгляжу?
- У тебя белые волосы, белые ресницы и белые брови.
- Правда? - шепчу. - Так я и думал. Тогда все сходится... Ну что ж. Пора, наверное, рассказать последнюю сказку.
- Последнюю?
- Да. Пусть это будет хорошая сказка с плохим концом.
Наконец-то, мне удается выманить улыбку на ее губы. Впервые за сегодня. Сонино лицо оттаивает и расцветает — а я на какое-то время забываю, что на самом деле она просто тень.
- Для нашей главной сказки ты мог бы придумать название получше!
- Куда уж лучше, - усмехаюсь, довольный, что сумел ее развеселить. Хотя повод для веселья — сомнительный. - А чем тебе это не нравится? У сказки под названием жизнь всегда плохой конец. Разве нет?
Она грустно качает головой.
- Конец — это всегда печально. Но не всегда жизнь обрывается на полуслове.
Молчу, задумчиво разглядывая ее тонкий профиль. Что тут скажешь? Она права.
- Ну, хорошо, - вздыхаю, - пускай называется сказка-ложь.
Соня возражает.
- Как раз сегодня мне хотелось бы послушать правду.
- Увы. Сказка никогда не бывает правдивой. В ней есть зерно истины — как то слово, написанное на бумажке. Табличка с одним единственным словом, грезящим ложью, красивой и складной выдумкой. Вот что такое сказка. Уж я-то в таких вещах разбираюсь. Столько наврал в свои годы, что тебе и не снилось. А будешь говорить правду — получишь лохматый и бесформенный кусок жизни, без сюжета и смысла.
- Ладно-ладно, - она шутливо отмахивается от меня. - Тебя не переспоришь. Рассказывай. Посмотрим, что выйдет — ложь или нет.
Мы наклоняемся друг к другу через столик и тесно переплетаем пальцы. Держи меня крепче, Соня. Не отпускай — мне осталось досказать совсем немного. А там, и в самом деле, посмотрим, что получится.
Бывает так, что человека ломает сущая мелочь. Именно она оборачивается тем камнем на пути, споткнувшись о который, получаешь сотрясение мозга, а то и дырку в черепе. То, что люди зовут суеверием — будь то мертвая птица на дороге или черная кошка — становится грозным знаком беды. После него в размеренную и благополучную жизнь врывается непредсказуемое. Зазевавшийся стрелочник неправильно переводит стрелку и поезд твоей судьбы уходит на аварийный путь.
- От мечты до счастья — один шаг! - говорила моя Софи. - Нет, полшажочка. Надо только уметь мечтать и знать, чего ты хочешь. Надо верить, что весь мир — у твоих ног, и так и будет.
Читала ли она книжки о позитивном мышлении? Или унаследовала оптимизм от родителей? Отец моей жены рано умер, но я знал ее маму и бабушку – веселых и добродушных, не поддавшихся ударам судьбы. А может, Софи, как истинная женщина, интуитивно постигала законы мироздания? Так или иначе, но вера ее, хоть и казалась пафосной, на самом деле была искренней и чистой, и шла как будто изнутри, из каких-то неведомых глубин души.
В общем, я так и не понял, откуда взялась эта ее теория — но она работала. Софи, точно сказочный эльф, шла босиком по солнечному лучу, и стоило ей чего-то захотеть, как желаемое само плыло в руки.
Она могла бы намечтать тюльпаны на рождество. Подснежники в начале января. Снегопад в июне. Или дождь из маргариток.
- Все, что ты видишь вокруг, - объясняла мне Софи, когда долгими, уютными вечерами мы пили какао на нашей маленькой кухоньке, - ты создаешь своими мыслями. Как подумаешь о хорошем — тут же оно и случится. Вселенная только и делает, что ищет повод нас порадовать. Ведь мы — ее любимые дети.
Она сидела, подперев щеку рукой, и смотрела мимо меня — в синее окно. Помню до сих пор — тесное пространство кухни и мы, запертые между плитой и буфетом, стынущие чашки на столе и темно-синий заоконный свет.
Иногда я подтрунивал над ней, реже — спорил, и то скорее забавляясь, чем желая что-то доказать, но чаще просто слушал и усмехался в усы. Ну, это в фигуральном смысле. Усов я не ношу.
Бывало, я завидовал ее жизнелюбию. Видеть в каждой пчелке, майском жуке или раскрывшемся листочке добрый знак — для этого надо иметь особый талант. Вот, солнышко выглянуло из-за туч. Ну, выглянуло и выглянуло. Так бы я сказал. Погода сегодня такая — переменная облачность. А Софи улыбается загадочно. Говорит, ну, жди письма из редакции с доброй вестью. Я в то время баловался рассказиками — парочку даже напечатали в одном третьесортном журнале.
Вишневые почки раскрылись в конце февраля. Рановато, я бы заметил — да и забыл. Подумал бы еще мельком, жаль, замерзнут деревья, как ударят поздние морозы. А Софи ликует: бабуле станет лучше! У ее бабушки сильно отекали ноги.
Какая связь, казалось бы — солнце, публикация, вишня, бабушка?
А моя дорогая жена смотрела на меня ласково, как на несмышленого ребенка, и говорила:
- Мир — живой и откликается на наши мысли. Ты только приглядись к нему, прислушайся повнимательнее. Его можно читать, как книгу.
Ну, что тут возразишь? И ведь правда, из редакции в тот же день пришло письмо, и бабуля позвонила — мол, полегчало ей.
А уж если радуга взошла после дождя — так это восторг! Феерия радости!
Ветка березы качнулась — уронила хрустальную каплю... Две бабочки-павлинки станцевали в небе...
Стояло первое по-настоящему теплое апрельское воскресенье. Измученные затяжным межсезоньем, люди высыпали на улицы. Старички с палочками и тележками для ходьбы, мамаши с детьми, отвязные подростки с телефонами в руках разбрелись по скверам и паркам. Стало шумно и весело. Мы с женой собирались за город, на пикник, но в последнюю минуту передумали. Захотелось побыть частью толпы... странное желание, если разобраться. Я ненавижу толпы, и Софи тоже их не любила. Обычно мы, не сговариваясь, выбирали для прогулок тихие уголки. Почему в тот день нас потянуло в парк? Может быть, судьба. От нее, как известно, не уйдешь.
Лишь только мы вступили под прозрачные березовые своды, как почти сразу же наткнулись на детский праздник. Лотки с мороженым, вертушки с сахарной ватой, надувные бассейны и горки, большие поролоновые кубики, сложенные на траве, пирамидки и самокаты... и, конечно, массовики-затейники. Там были даже переносной тир и кукольный театр. Толкотня, смех, визг, окрики взрослых и милые, перемазанные шоколадом мордашки. Я, взрослый человек среди малышей, чувствовал себя неловко. А Софи — хоть бы что. Она сама каким-то чудом обратилась в маленькую девочку. В ту самую девчонку с задорными хвостиками, которая в детском садике завязывала мне шнурки. Дралась из-за меня с мальчишками, искала мои пропавшие тетрадки — я лет до восьми был таким разиней, что терял все на свете. Кормила меня на переменках бабушкиными пирожками, слушала мои сказки, подсказывала мне на уроках, когда я запинался у доски и со страху начинал жевать рукав. Боже мой, думал я иногда, ведь мы знаем друг друга всю жизнь. Сколько себя помню — она была рядом, заботилась, помогала, утешала. Без нее я и не человек вовсе, а половинка человека.
И знаешь, что странно? Я так ни разу и не объяснился ей в любви. Это казалось само собой разумеющимся, что мы вместе, неразлучны, как правая и левая рука, и что так будет всегда. О чем говорить? Все равно, такую близость, такое удивительно родство душ словами не опишешь.
- Ну что, малышка, - подтрунивал я, - пойдешь смотреть Касперле?
- Обязательно, - ответила она серьезно, а огненные чертики в глазах так и пустились в пляс. - Но сперва я хочу шарик. Спорим, будет зеленый? Если зеленый — поедем летом в Испанию, а если красный — осенью выйдет твоя книжка! Синий, - она загибала пальцы, - выиграем в лотерею...
Под облезлым платаном и чуть в стороне от всеобщего празднества, стоял фокусник в парике морковного цвета и раздавал детям разноцветные шарики в форме зверюшек. К нему стояла небольшая очередь — ребятишки лет пяти-восьми вместе с родителями.
- А желтый? - засмеялся я.
- Хм... желтый. А это — мой маленький секрет. Узнаешь, когда придет время.
- Ну, хорошо.
Мы пристроились в конец очереди.
Фокусник в оранжевом парике выхватывал из корзины похожие на тряпочки шарики и надувал узкую колбаску, скручивал и перевязывал узлами — пока не выходили забавная собачка, жираф или птица с длинной шеей. Раз-два... Его пальцы так и мелькали, и совершенно невозможно было отследить последовательность движений. Попутно он успевал улыбаться детям, подмигивать их мамам и рассказывать длинную историю без начала и конца о похождениях страусенка Додо.
«А ведь это похоже на лотерею, - успел я подумать. - Не знаешь, что тебе выпадет».
По идее, каждый мог бы попросить: «Сделайте мне, пожалуйста, собачку» или «хочу жирафика!», но малыши ждали молча, с серьезными лицами.
- А сейчас юная дама получает... - провозгласил фокусник, - получает... страуса!
Девочка, стоявшая перед нами, приняла из его рук синюю шарико-колбаску и критически ее оглядела.
- Это Додо? - повернулась она к матери, полноватой крашеной блондинке.
Та важно кивнула. Конечно, Додо, кто же еще. А фокусник уже смотрел на мою жену. С застывшей полуулыбкой, слегка наклонив голову, он как будто принюхивался, настороженно втягивая воздух через плоские ноздри. Так хищник выслеживает добычу. И действительно, во взгляде его немигающих желтоватых глаз мне почудилось что-то волчье.
Ни слова ни говоря, он вытянул из корзины шарик и, выдув колбаску, перекрутил, перевертел, так, что получились туловище, голова, остренькая мордочка, уши и хвост. Безногая крыса? Впрочем, кто ее разберет.
Шарик оказался черным.
Софи взяла подарок и, не оборачиваясь, пошла прочь. Я догнал ее и поймал за руку.
- Видишь, а мы с тобой не угадали. Так всегда и получается — думаешь, а как оно будет, а выходит совсем по-другому.
Она молчала. Плечи поникли — Софи завернулась в них, как птица в сложенные крылья.
- Значит, в Испанию не поедем, - произнес я бодро, - а вместо этого махнем в Италию или на Кипр. Главное, тепло и море. Ну, а книжка моя? Да и черт с ней!
А про себя добавил: «И вообще, глупости это. Каким надо быть ребенком, чтобы расстраиваться из-за подобной ерунды».
Я еще подумал, наверное, переживает из-за своего «маленького секрета».
- Но почему? - Софи резко остановилась, сжав до боли мою руку. Зрачки большие, испуганные... На лицо словно легла тень. - Почему он черный?
- Наверное, потому, что мы взрослые, - я пожал плечами. - Цветные — для детишек. А какая разница?
Мы неспешно брели к выходу из парка, прочь от шумного празднества.
- Я читала про него, - медленно проговорила Софи. - Это фокусник-смерть. Он появляется на детских утренниках и народных гуляниях, хотя никто его не приглашает. Всегда в рыжем парике и полосатых штанах. И тот, кому он вручит черную метку, через несколько часов умрет.
- Девочка моя, - я даже рассмеялся. - Поменьше читай дурацких книжек! То есть... читать,
конечно, здорово, но не принимать же их всерьез? Ведь это абсурд!
Софи рассеянно кивнула, и до самого дома мы не проронили больше ни слова.
Что тогда произошло? Я так и не понял и до сих пор не понимаю. Способен ли человек сам на себя навести порчу? Не подхватила ли моя жена что-то вроде информационного гриппа? Вирус еще более незаметный, но не менее разрушительный, чем реальная инфлюэнца... И заразиться им можно от чего угодно — будь то газетный заголовок или роман Стивена Кинга. Или разочарование оказалось слишком глубоким? Каким бы пустячным ни был повод, но этот жуткий момент, когда судьба вместо цветного протягивает тебе черный шарик — как его пережить? Мою любимую точно подменили. До вечера она побледнела и осунулась, став похожей на сдутый шарик, и выглядела совершенно больной. Напрасно я пытался ее развеселить или хотя бы просто отвлечь, рассказывая анекдоты, отыскивая смешные картинки в сети... даже начал сочинять сказку. Хотя какое уж тут вдохновение — меня съедала тревога. Софи все дальше уходила в тяжелые раздумья.
К утру она умерла. А я так и не успел признаться ей в любви.
- Вот такая история, - заканчиваю неловко и отвожу взгляд. - Как говорится, хотите верьте, хотите нет.
Чувствую, как Сонины пальцы теплеют в моей ладони. Словно каким-то чудом в ее бесплотное тело ненадолго возвращается жизнь. По бледным щекам зарей растекается румянец.
- Что ж, наверное, еще не поздно, - она слегка усмехается. - Может быть, затем ты и тут.
- Не поздно что?
- Признаться.
Будь мы оба живы, я непременно привлек бы ее к себе и поцеловал в губы. Она бы со вздохом прижалась к моей груди. Мы обнялись бы, и долго не размыкали объятий, слушая биение родного сердца. Мы нашли бы друг для друга много прекрасных и небанальных слов.
Но в гадесе, для всего этого нет ни места, ни времени. Поэтому я еще крепче стискиваю ее слабую руку и говорю просто:
- Я люблю тебя, Соня.
- И я тебя, - эхом откликается она.
Слова, которые в мире живых полны надежды, здесь звучат надгробной эпитафией. Мы по-прежнему сидим за столиком, а за окном сгущаются сумерки. Незаметно, как бы исподволь, без вечерней загадочной игры красок — постепенно исчезает свет.
- И все-таки ты соврал, - улыбается Соня, и в полумраке ее глаза блестят. - Все было совсем не так. Этот случай с фокусником — всего лишь эпизод. Под утро я не умерла, а забыла о дурацком черном шарике, даже если сначала и огорчилась немного. А когда через месяц заболела раком, то да... мелькнула мысль о знаках. Мне уже за пару недель до диагноза стало беспокойно на душе. Какие-то чудные совпадения пошли, приметы, сны. Синичку мертвую нашла на крыльце. И еще, я тебе не рассказывала, но буквально накануне мне приснилось, как я покупаю вырезку в мясной лавке. И ощущение такое неприятное — будто сосет под ложечкой. Не боль, а странная такая пустота. На прилавке — огромные куски мяса, свиная голова, уши, языки. Мозги — в лоточке. И по стенам окорока развешаны... И этот багровый мясной свет, от которого все внутренности выворачивает. Я проснулась, зная, что больна. Правда, не думала, что смертельно.
- Это же сказка, - пытаюсь возразить, но Соня меня точно не слышит.
- И характер мой ты описал не верно. Этакой бабочкой, что порхает с цветка на цветок. Как будто я боли не знала... Когда бабуля умерла, я три дня плакала не переставая. Хотя и понимала, что время ее пришло, что это естественный ход вещей — а все равно, так плохо, что хоть вой.
- Это сказка, - повторяю упрямо. - Конечно, в жизни все не так. Или не совсем так. А бабушка твоя была хорошей.
Соня кивает, глотая слезы, и мы оба погружаемся в воспоминания. Своего рода минута молчания о прекрасном человеке, добром ангеле-хранителе наших детских лет.
Она ушла в неполных девяносто восемь лет и почти до самого конца управлялась с нехитрым хозяйством — старый бревенчатый домик, черная кошка по имени Багира и три огуречные грядки. Носила воду из колодца, по вечерам жгла керосинку — в глухомани, где она жила, не было ни электричества, ни водопровода. Сперва дочь, а потом — мы с Соней привозили ей продукты из города. Вспоминаю ее усталые руки со вздутыми венами, все в пигментных пятнах, и бодрую улыбку, которая как солнце освещала все вокруг, и пирожки с капустой, чай со смородиновым листом, уютные семейные вечера...
- Береги мою девочку, - говорила мне незадолго до нашей с Соней свадьбы.
Прости, добрая бабушка. Не уберег. Да и кто бы сумел?
После смерти старушки остался дом и осиротевшая кошка. Сначала мы с женой хотели взять Багиру себе, но привыкшее к свободному выгулу животное страдало бы в тесной городской квартире. О том, чтобы отдать кошку в приют не могло быть и речи.
В конце концов я сделал вот что. Всю мебель перетащил на чердак, а кое-какие памятные вещи — салфетки, вышитые бабушкиными руками, фотографии, Сонин детский портрет, фарфоровую куколку в старинном платье — вывез к нам. Больше ничего ценного в доме не оставалось. И тогда я поставил на первом этаже кормушки и миску с водой, и распахнул дверь, подперев ее колышком, чтобы не закрывалась. Так Багира могла приходить и уходить, когда ей вздумается. Каждые выходные, а бывало, что и в середине недели я приезжал в бревенчатый домик на краю мира, насыпал корм и менял воду в поилке. Но столовалась в импровизированном кошачьем пенсионе, разумеется, не только бабулина любимица. От четвероногих постояльцев не было отбоя. Хвостатый люд обживал гостиную и террасу, летом грелся на солнышке — на крыльце, а зимой — жался к печке, которую я в самые лютые морозы топил. Дикие коты сбегались со всей округи. Иногда я насчитывал до двадцати пушистых, урчащих зверюг. Попадались среди них и домашние — недолюбленные и недокормленные. Я не разбирался, кто есть кто. Пришел — добро пожаловать. Будь моим гостем.
Старушка Багира ненадолго пережила свою хозяйку. Но и после ее смерти я продолжал наполнять кормушки. Не только из жалости к хвостатым — где-то в глубине души я надеялся замолить таким образом наши с Соней грехи и вырвать жену из лап болезни. Напрасно. Ей становилось все хуже и хуже.
Похоронил я Сонечку поздней осенью, когда мокрый ветер рвал с деревьев последние желто-бурые листья. Отмучилась моя любимая... А для меня начались страшные и тоскливые вечера, когда я, как раненый зверь, забившись в свою нору, чуть ли не выл от фантомной боли. Душа разделилась надвое, саднила и кровоточила. Словно ножом полоснули по живому.
К зиме рана как будто начала затягиваться. Застыла природа, скованная холодами. Замерз пруд, ледяным, звонким, как хрусталь, панцирем покрылась земля. И у меня внутри все оцепенело. Боль поутихла, но жить с половинкой души я так и не научился.
Помню февральские морозы, злую поземку и яркое солнце, не только не дающее тепла, но как будто отбирающее его у земли. Маленькое и красное, оно замерло в небе, как полюс холода. Я шел со станции сквозь лес, мечтая упасть в сугроб и не двигаться. Говорят, смерть от холода — легкая смерть. Но в сумке у меня лежал пакет с кошачьим кормом и бутылка с водой. Я думал о котах, которые будут ждать у холодной печки, рядом с пустой кормушкой — и упрямо двигался вперед.

Бревенчатый домик тонул в снегу, и я впервые отметил про себя — какой же он маленький и покосившийся. Точно согбенный горем. Не зря говорят, что у дома и человека — одно сердце на двоих. Первым делом я нарубил дрова и растопил печь. Насыпал корма в кормушки, долил в миску воду. Зверьки жадно набросились на еду. Я смотрел на них, привалившись спиной к печке, как они чавкают, вылизывают лапы и спину, чешутся. По телу медленно разливалось тепло. Набрякшие от невыплаканных слез веки тяжелели, перед глазами стояла красная пелена. Вокруг меня медленно засыпали хвостатые питомцы. Коты — стражники гадеса. Я скользнул за их снами и очутился здесь — на берегу черной реки забвения.
Соня грустно кивает, словно опять прочитав мои мысли.
- Тебе пора, - говорит она. - Коты просыпаются.
- Не гони меня, - прошу. - Коты могут спать долго.
- Долго, но не вечно... Иди, - торопит она меня и встает. - Мы еще увидимся. Когда-нибудь. И пускай это случится не скоро. Я желаю тебе долгой и счастливой жизни. Правда.
Я тоже встаю и устало бреду к двери, но на полпути останавливаюсь.
- Погоди. Я вспомнил, зачем я здесь, - говорю поспешно, потому что в уши мне уже льется тихое мурлыканье. - Я вернулся за тобой, как Орфей за Эвридикой. Мы можем уйти вместе — сейчас или никогда. Путь открыт. И тогда ты получишь второй шанс. Мы оба получим второй шанс.
Соня грустно качает головой.
- У нас ничего не получится.
Но я продолжаю умолять ее — мою жену, мою любимую, мою судьбу.
- Давай попробуем. Ведь у Орфея почти получилось, может, выйдет и у нас. Просто следуй за мной. А я не повторю ошибки Орфея и не оглянусь. Ни за что не оглянусь!
- Хорошо, - соглашается она. - Давай попробуем.
Я иду сквозь кошачьи сны, и мир вокруг постепенно оживает, из тускло-серого становится радостным и цветным. Он струится, наполняясь движением и звуком, и мурлычет голосами моих пушистых друзей:
- Спасибо, что даешь нам корм и кров. Только, пожалуйста, не забывай иногда погладить нас и почесать за ушами. Дай нам имена. Мы не хотим оставаться ничьими, злыми и дикими. Пусть мы будем твоими котами, а ты — нашим человеком. А когда пробьет час, мы вместе уйдем по радуге в страну, где никогда не заходит солнце. В край вечной любви.
Источник: LitSet.Ru
Автор: Джон Маверик
Топ из этой категории
 Любовная любовь
Любовная любовь
Лина Светова Я ношусь со своей, самой острою, болью И со страхом. Смотрю со своей колокольни. У тебя есть своя. Ты со...