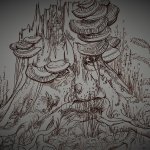Найти чёрную кошку в тёмной комнате 3

Книги / Необычное
Глава 3
«Как удивительно, – думал Йенс. – Сколько радости, оказывается, может принести человеку обыкновенная китайская лампа на батарейках!» С тех пор, как он подарил Саре купленный у Ханса ночник – «аварийный, – сказал, – на случай, если опять электричество выбьет», – девочка сильно изменилась. Оживилась, повеселела, заметно округлилась лицом. Бледные щёки разрумянились и заблестели – глянцево, как спелые яблоки. Тревожная мимика смягчилась, уступив место доверчиво-детской, и даже речь из прерывисто-пугливой сделалась медленной, текучей. Сара больше не боялась остаться без света и не плакала по ночам от страха перед доппельгангерами.
– Я теперь гораздо лучше сплю, – похвасталась она Йенсу.
Зеркальце, пилочки, заколки и прочие штучки были изгнаны в выдвижной ящик, а на столике воцарился зелёный камень, оттеснив в угол больничный ночник.
Девочка скучала. К ней никто не приходил – парализованная после инсульта бабушка и страдающий болезнью Альцгеймера дед не могли навещать внучку. И отчего-то так повелось, что в конце каждого рабочего дня, а иногда и во время него – в свободную минутку – Йенс заглядывал в палату к Саре. То ли сироту жалел, то ли сам возле нее отогревался. Девчачья болтовня отвлекала от ненужных рефлексий и казалась путешествием в прошлое, где все было молодо, беззаботно, и любая беда виделась не преградой, а кочкой на пути.
– …ничего, говорит, не знаю. Он нам так сказал, господин Хоффман, хватит вам гулять, будете каждую неделю писать по тесту. Кто не подготовился – пеняйте на себя. Я, говорит, ненавижу детей...
– Кто? – улыбался Йенс.
– Да физик наш. А дед – он тогда еще нормальный был, ну, более или менее. Сейчас-то совсем забывчивым стал, чайник сам заварить не может... Смотрит на него и не знает, что раньше делать: плиту включить, заварку насыпать или воду налить.
– Как же вы живёте?
Девчонка передёрнула худыми плечами.
– А так. Я по дому хлопотала. А сейчас к ним социальный работник ходит. Да, так дед, значит, в школу позвонил и...
– Сара, – перебил ее Йенс, – ты расскажи лучше, как всё у вас в Андсдорфе начиналось?
– Ну... – она задумалась. – Я тогда маленькая была. Мы на Шиллерштрассе жили, в самом центре города. И вот, помню, уже месяца за два начало потряхивать. То чашка со стола упадёт, то люстра трясётся и посуда в шкафу дзинькает. Мама смеялась, что это дракон просыпается, есть хочет.
– Какой дракон? – спросил Йенс.
– Жёлтый, земляной. Сказка была такая... Мама всё время сказки придумывала, чтобы я лучше засыпала. Не помню, чтобы кто-нибудь боялся подземных толчков. Взрослые переглядывались – но без паники. Может, их городские власти успокаивали или ещё что. Они всегда себя так ведут: говорят, что все нормально, а на самом деле...
Йенс кивнул.
– А в самый день землетрясения, – продолжала Сара, – мы с дедом и бабулей гуляли в парке – в том, что вдоль набережной тянулся. Красивый парк. Мраморные статуи, лавочки, лесенка к воде. Бабуля, помню, для меня кораблик смастерила из голландской туфли – паруса из сумки выкроила, как настоящие получились. Он мне нравился очень. Я по ступеням вниз сошла – там отмель песчаная – так я на отмели присела на корточки – спустила кораблик на воду. И тут вода стеной вздыбилась – чуть меня в реку не смыла, и слышу: дед кричит. «Сара, сюда, скорее!» Кричал так, что я перепугалась. Бросилась наверх. Еле успела. Земля ходуном заходила – так, что стоять невозможно, потом раскололась и река вся в трещину утекла. Ужас такой, господин Хоффман. Деревья падают, камни какие-то, куски асфальта. Люди бегут, а я реву – мне кораблик жалко. Мы с дедом и бабулей выбрались кое-как, а кто дома был – мама, папа, Моника – всех засыпало.
– Моника – это твоя сестра? Она тоже погибла?
– Да... Она болела в тот день, поэтому с нами гулять не пошла. Пошла бы – жива осталась. Она такая была... кра-си-ва-я...
Сара всхлипнула, и Йенс протянул ей бумажную салфетку, в которую девочка сразу уткнулась покрасневшим носом. Как там Элькем говорил: «приходится иногда быть и терапевтом, и психологом...»? Что ж... Иногда Йенс представлял себе, что такой, как Сара, могла вырасти их с Джессикой дочка – легкомысленной болтушкой, упрямым подростком с крашеной чёлкой – и по сердцу проходила волна нежности. Хотелось приобнять девчонку, потрепать по щеке, сказать что-нибудь доброе. Потом вспоминал, что никакая она ему не дочь, и готов был сквозь землю провалиться от неловкости.
– Ну вот, – Сара швырнула мокрую салфетку на столик. – Потом город отстраивать начали – магазины, дома... но, как раньше, уже не стало. Нам с дедом и бабулей муниципалитет квартиру выделил – на отшибе, но мы и тому порадовались, потому что во времянке жили. А через пару лет эти полезли из разлома, как черти из ада.
– Доппельгангеры?
– Ага, доппели. Сначала по темным окраинам шастали, где фонарей нет. А когда с нашими главными договорились, чтобы свет везде выключать и окна задраивать – повсюду начали бродить. Теперь уже мы ночью на улицу выйти не можем. Оккупировали город, – сказала сердито и, заметив удивлённый взгляд Йенса, добавила: – Так дед говорит. А я их ненавижу.
– Сара, а откуда они вылезают? – спросил Йенс. – Доппели?
– Из-под моста, где я упала. Там их главная «дверь». Вы там были, господин Хоффман, видели...
– Нет.
– А почему? – заинтересовалась Сара. – Все, кто к нам, в Андсдорф приезжают, туда ходят. Что-то вроде местного аттракциона, иначе что у нас делать? Говорят: «нам всё равно, мы про них ничего знать не хотим, про ваших двойников», а сами идут.
– Я работать приехал, – сухо ответил Йенс.
«И я не любопытен», – прибавил мысленно.
Он лукавил – и перед Сарой, и перед самим собой. Да, психологию туриста Йенс презирал, и от «местных атракционов» его всегда с души воротило. Не праздным ротозеем явился он в Андсдорф. Дело, однако, заключалось в другом. Ни себе, ни, особенно, малявке – а может, и наоборот: ни ей, ни, особенно, себе – Йенс не мог признаться, какой жути нагнал на него рассказ Сары о подземной музыке. Необъяснимый, ирреальный страх копошился в сердце, стоило только вообразить густые заросли молодых дубков, грибы во мху, тонкие, разрозненные звуки чёрной флейты. Не страх даже, а какое-то тихое отвращение. Пойти к разлому – было то же самое, что в детстве прогуляться по ночному кладбищу. Или ещё хуже. На кладбище Йенс – уж если на то пошло – ничего не потерял, и поход туда представлялся ему бессмысленным геройством, а в разлом его влекли мысли о Джессике.
«Вы там были, господин Хоффман, видели...» – повторил он слова Сары. Почему она говорила так уверенно? Могла ли девчонка что-то знать о его горе? Конечно, могла... и знала. Все знают, что в Андсдорф не приезжают просто так. Это город скорби и скорбящих, и скорбь влечёт людей к таинственной «двери», заставляет писать записки и класть их на карниз «Остерглоке», искать «сумеречную зону». Что же он, Йенс, медлит? Скоро дожди польются, не переставая, стеной. Нудные осенние ливни, которые превращают улицы в реки, а переулки – в сточные канавы. Тогда землю под мостом окончательно развезёт. Потом ударят ноябрьские холода. Поднимаются ли доппельгангеры зимой на поверхность или спят в глубине, окутанные землёй, как личинки насекомых? Йенс понятия не имел, есть ли у двойников обувь и тёплая одежда. Ему они виделись босыми и в лохмотьях – в обносках с человеческого плеча. Едва ли они сами умели ткать и шить, а босиком и раздетыми не очень-то погуляешь по снегу.
«Ладно, убедила девчонка. Погляжу на разлом, – решил Йенс, – эту местную медину и мекку. Пока окончательно не испортилась погода. Узнаю, что там такое. Может, и грибов наберу заодно», – подумал слегка истерично.
Он собирался пораньше уйти с работы, тем более что операций после обеда не намечалось. Оставалась кое-какая писанина, но её не грех было закончить в другой день. Однако в начале четвёртого привезли роженицу с неправильным прилежанием плода, и Йенсу пришлось спуститься в операционную на первом этаже. Пока устанавливал эпидуральный катетер и выполнял прочие рутинные процедуры, заметил: что-то звериное витало в воздухе в доппельгангерском крыле. А ещё – сквозь хлорку и антисептики отчётливо пробивались ароматы земли, цветов и мокрых еловых шишек. То, что в «верхних» отделениях лишь угадывалось, едва различимое, смутное, скорее, воображаемое, чем реальное – в родильном звучало ясной холодной нотой. «Как будто двойники здесь – частые гости», – удивился Йенс.

Кесарево сечение под местной анестезией – операция несложная. Он провёл таких сотню. Пациентка в сознании, но не чувствует боли.
«Доктор, а правда, что от наркоза можно охрометь?» – спрашивает женщина с торчащим носом и впалыми щеками – и Йенс смотрит ей на кончик носа. – У моей знакомой правая нога так и не очнулась – до сих пор как ватная...» – «Всё будет хорошо, – успокаивает он пациентку, – не беспокойтесь, фрау Бопп».
«Отличный мальчик! Поздравляем!»
Недоверчивая гримаса на лице женщины сменяется радостью, почти восторгом. По серым губам улыбкой разливается неожиданная красота.
Через сорок минут Йенс помыл руки и вышел в холл, мечтая о чашечке горячего кофе. Фрау Бопп отвезли в палату. Младенца... а вот и фрау Вернеке с новорождённым, но только как же странно она его несёт! Закутанного с головой в какую-то тряпку – не байковое одеяльце, в которое обыкновенно заворачивают детей, а что-то линялое, непонятного цвета. Держит грубо, поперёк, будто куль с мукой, а не живое существо. Мёртвый ребенок? Не может быть, в операционной он закричал!
Сам не вполне понимая, чего хочет, Йенс двинулся за старшей медсестрой. Ступал мягко, стараясь не шуметь, и с рассеянным видом – на случай, если фрау Вернике обернётся и спросит, что ему, собственно, нужно – но та скользила вперёд, не оглядываясь. Высокая, парящая в пространстве холла фигура в гладких одноразовых бахилах и зелёном халате – прямая, словно швабру проглотила, худая и строгая. Не женщина – мойра.
Вслед за фрау Вернике Йенс прошёл коридор до конца и, свернув направо, оказался в тупике, перед закрытой металлической дверью. Он видел, как медсестра, зажав кулек под мышкой, набрала какое-то число на цифровом замке. Дверь распахнулась – за ней в багровом полумраке обозначилась лесенка, ведущая наверх. Нижняя ступенька была подсвечена двумя тусклыми светодиодами, верхние – терялись во тьме. И запах – всё такой же неуловимо-хищный, острый и свежий одновременно – ударил струёй. Концентрированный аромат леса, пожалуй, приятный, но абсолютно не уместный в провонявшей лекарствами больнице.
Йенс замешкался, не зная, идти ли дальше или сделать что-то другое, может быть, окликнуть медсестру с ребёнком, и пока он раздумывал, та скрылась в узком красном проёме. Тяжёлая дверь захлопнулась за её спиной, запечатав проход в звериное логово. Йенс подёргал ручку – закрыто. Ай да фрау Вернике! Не зря она не понравилась ему с первого взгляда. Йенс не любил сухих, педантичных женщин, а в старшей медсестре ему вдобавок чудилось что-то безжалостное, чтобы не сказать – человеконенавистническое. Мисс Гнусен, чтоб её, омерзительный, но неизбежный среди младшего медицинского персонала типаж.
«Ну ладно, хватит накручивать, – перебил сам себя Йенс. – Так Бог знает до чего додуматься можно», – и поспешил в «человеческое» крыло, на второй этаж.
– Что? – озадаченно переспросил Лемес, выслушав сбивчивый рассказ коллеги. – Отнесла новорождённого доппельгангерам? Да, но... вы просто не в курсе, Хоффман. Это – другое, не то, что вы подумали. Ну, хорошо, я узнаю, в чём дело.
Пока он звонил в родильное отделение, Йенс сварил кофе и разлил в две чашки. Одну пододвинул Лемесу, достал из шкафчика сливки и крекеры и устроился с блюдцем на коленях возле окна. Через металлический карниз, наискосок, протянулся узкий оранжевый блик. Почти вровень с подоконниками второго этажа чернели верхушки тощих больничных кипарисов. Ветер, не по-осеннему тёплый, мягкий и вкрадчивый, колыхал листву, и яркая полоса на карнизе шевелилась, как живая.
«Ещё немного, – размышлял Йенс, меланхолично помешивая ложечкой ароматный напиток, – и осматривать разлом будет поздно. Может, оно и к лучшему. Схожу завтра... А что завтра? Такой же день. Нет, хватит откладывать, сколько можно».
Кофе в чашке медленно принимал закатный оттенок, и Йенсу казалось, что он пьёт маленькими глотками прощальный солнечный свет.
– Всё в порядке, – сообщил Петер Лемес, кладя трубку, – дети – на месте. Доппельгангеры никого не съели. Да шучу, шучу. Это у нас слухи такие ходили в городе – будто они питаются младенцами. Человеческое воображение – страшная штука. Неуправляемая и агрессивная. Будь хоть половина вымыслов правдой, Земля давно превратилась бы в ад. Знаете что, Хоффман? Поговорите-ка лучше с Элькемом. Наверное, вам стоит кое-что увидеть.
– Обязательно, так и сделаю, – заверил его Йенс и, неловко повернувшись, плеснул себе на брюки немного солнца, которое тут же обратилось в неряшливое бурое пятно.
Часы на ратуше только-только пробили половину восьмого, когда он покинул, наконец, больницу, но не направился через центр города – домой, а свернул направо, к Кельтербургскому разлому. В ранних сумерках ландшафт переменился – выглядел хрупким, леденцово-марципановым. Белые домики с черепичными крышами, до самых труб увитые вечнозеленым плющом, таяли в малиновых лучах. Плющом были затянуты и все окна. Дома, точно слепнущие от глаукомы, надели зелёные очки, и Йенс подумал, что район давно оставлен жителями. Улица, вся в заплатах и колдобинах, напоминала порожистую реку, по берегам которой мягко колосились нестриженные газоны. Потом асфальт кончился, и под башмаками заскрипел гравий.
Уродливый шрам, пересекающий Андсдорф, брал начало – и название – в окрестностях деревни Кальтенбург, поворачивал на юго-восток и заканчивался в районе Фрайлассинга на границе с Австрией. Подобраться к нему, не переломав ног, возможно было лишь в тех местах, где муниципальные власти успели разгрести вывороченные базальтовые глыбы и обломки стен старого Анда. По узкой земляной тропинке Йенс спустился под мост – из оврага ему в лицо пахнуло застарелой сыростью.
Он шёл, отводя в сторону ветви, переступая через корни, похожие на толстых белых змей – а может быть, и через змей, похожих на древесные корни. Дубки перемежались с ёлками, цеплялись за штанины длинные плети ежевики. Вокруг становилось всё темнее. Какие уж тут грибы – Йенс с трудом различал носки собственных ботинок. Наврала девчонка. Подростки – такие: врут, как дышат. Он усмехнулся в темноте. Тропинка пропала, затерялась среди жидких кустиков мха. Ещё пара шагов – и Йенс чуть не оступился в очерченную тусклым свечением лишайников щель. Вернее, они не светились, а красновато поблёскивали, как медная посуда. Отражали невидимое солнце. Присев на корточки у самого края, Йенс заглянул вниз. Из щели веяло жутью, как из очень глубокого колодца, и не то что спуститься в разлом, а просто смотреть в него казалось страшнее, чем выйти в открытый космос.
– Джессика? – шепнул Йенс.
Как будто она могла его услышать... Или могла? Он застыл в неудобной позе, боясь пошевелиться. Весь обратился в слух, в ожидание, в глупую надежду. И вдруг – что это? Из глубины мха, словно поднимаясь по хрупким стебелькам, до него донёсся звук, который Сара не зря назвала манком. Он манил. Тихий, как ворчание подземного ручья, и тоскливый, как плач. Что бы это могло быть? Почвенные газы? Ключи? А может, там и в самом деле птица? Ворочается, хлопает крыльями, заливается сладкой трелью. Серая и тонкая, похожая на выпь... Йенс никогда не слышал, чтобы пернатые вили гнезда под землёй, но ведь он не орнитолог. Каких только странных тварей не бывает в природе.
В какой-то момент Йенсу почудилось, что он узнаёт голос Джессики. Кинуться вниз головой, туда, к ней – вот чего ему захотелось, и не важно, что там, в пропасти – камни, скалы, звёзды... Он едва удержался. И, хотя светлее вокруг не стало, отчего-то увидел стволы деревьев по обеим сторонам разлома, и огромную корягу, упавшую поперёк, и чёрный, в оранжевых наростах валун, на котором беспомощно распластался раскисший от дождя самолётик. Здесь играли дети? Чудовищно. Или это были детёныши доппельгангеров?
«А может, письмо, как на карнизе «Остерглоке»? – подумал Йенс и как будто даже разобрал голубые разводы чернил, бывшие когда-то буквами. – Куда только не приводит нас отчаяние. Слабые мы существа, люди».
Его взгляд словно пробил землю и устремился вглубь, по гигантским базальтовым ступеням, по каменному лабиринту, на самое дно – к мёртвой реке, к древнему Анду. «Вот она какая, сумеречная зона, – шептал Йенс. – Видеть без света, понимать то, что постичь невозможно...» Как будто развеялись клубы дыма, и обнажилось яркое, чистое пламя. Он сидел и слушал, и чем больше слушал – тем меньше принадлежал себе.
«Звук – это свет», – корябала в блокноте Торика чернильным карандашом, сточенным до крохотного пенька. Её платье было перепачкано красной глиной, а под ногтями синела грифельная пыль. Торика уместилась на плоском каменном уступе, подолом укутав босые ступни. У ног её лежал Анд.
Она видела Йенса, сидящего на краю разлома, но писала не о нём. Что написать о человеке, который – незванным – подошёл к воротам? «Йенс, что ты ищешь у нас?» – могла бы она спросить, но не решалась приблизиться, чтобы задать вопрос. «Отражения следят за облаками, но облакам нет нужды беспокоиться о своих отражениях. Небо не смотрит в реку», – сказала бы она ему, но знала, что люди не нуждаются ни в чьих словах. Они говорят, но не слышат. Они считают, что Вселенная создана только для них, и не понимают, для кого некоторые птицы поют ночами.
«...это свет, – писала Торика, – белый шум, бесконечное многоцветье белого. В нём больше полутонов, чем у земли и неба, вместе взятых, чем у бегущей воды или стрекозиного крыла. Только уловить его краски можно не глазом, а сердцем.
Когда доппельгангер теряет зрение, потому что его зрачки выжженны солнцем – он освещает себе дорогу музыкой. Такова природа материи, в ней более половины составляет мелодия.
Колокольчики слепых распускаются, как цветы. Их много, очень много – солнце не щадит никого. Слепые блуждают в сумерках – в стране, где нет обмана. День или ночь могут солгать, но на их границе рождается понимание. Когда я хочу увидеть мир настоящим, я встаю на цыпочки, закрываю глаза и тихонько напеваю.
Восемнадцатое октября. Анд, Вилла Гретта».
продолжение следует...
«Как удивительно, – думал Йенс. – Сколько радости, оказывается, может принести человеку обыкновенная китайская лампа на батарейках!» С тех пор, как он подарил Саре купленный у Ханса ночник – «аварийный, – сказал, – на случай, если опять электричество выбьет», – девочка сильно изменилась. Оживилась, повеселела, заметно округлилась лицом. Бледные щёки разрумянились и заблестели – глянцево, как спелые яблоки. Тревожная мимика смягчилась, уступив место доверчиво-детской, и даже речь из прерывисто-пугливой сделалась медленной, текучей. Сара больше не боялась остаться без света и не плакала по ночам от страха перед доппельгангерами.
– Я теперь гораздо лучше сплю, – похвасталась она Йенсу.
Зеркальце, пилочки, заколки и прочие штучки были изгнаны в выдвижной ящик, а на столике воцарился зелёный камень, оттеснив в угол больничный ночник.
Девочка скучала. К ней никто не приходил – парализованная после инсульта бабушка и страдающий болезнью Альцгеймера дед не могли навещать внучку. И отчего-то так повелось, что в конце каждого рабочего дня, а иногда и во время него – в свободную минутку – Йенс заглядывал в палату к Саре. То ли сироту жалел, то ли сам возле нее отогревался. Девчачья болтовня отвлекала от ненужных рефлексий и казалась путешествием в прошлое, где все было молодо, беззаботно, и любая беда виделась не преградой, а кочкой на пути.
– …ничего, говорит, не знаю. Он нам так сказал, господин Хоффман, хватит вам гулять, будете каждую неделю писать по тесту. Кто не подготовился – пеняйте на себя. Я, говорит, ненавижу детей...
– Кто? – улыбался Йенс.
– Да физик наш. А дед – он тогда еще нормальный был, ну, более или менее. Сейчас-то совсем забывчивым стал, чайник сам заварить не может... Смотрит на него и не знает, что раньше делать: плиту включить, заварку насыпать или воду налить.
– Как же вы живёте?
Девчонка передёрнула худыми плечами.
– А так. Я по дому хлопотала. А сейчас к ним социальный работник ходит. Да, так дед, значит, в школу позвонил и...
– Сара, – перебил ее Йенс, – ты расскажи лучше, как всё у вас в Андсдорфе начиналось?
– Ну... – она задумалась. – Я тогда маленькая была. Мы на Шиллерштрассе жили, в самом центре города. И вот, помню, уже месяца за два начало потряхивать. То чашка со стола упадёт, то люстра трясётся и посуда в шкафу дзинькает. Мама смеялась, что это дракон просыпается, есть хочет.
– Какой дракон? – спросил Йенс.
– Жёлтый, земляной. Сказка была такая... Мама всё время сказки придумывала, чтобы я лучше засыпала. Не помню, чтобы кто-нибудь боялся подземных толчков. Взрослые переглядывались – но без паники. Может, их городские власти успокаивали или ещё что. Они всегда себя так ведут: говорят, что все нормально, а на самом деле...
Йенс кивнул.
– А в самый день землетрясения, – продолжала Сара, – мы с дедом и бабулей гуляли в парке – в том, что вдоль набережной тянулся. Красивый парк. Мраморные статуи, лавочки, лесенка к воде. Бабуля, помню, для меня кораблик смастерила из голландской туфли – паруса из сумки выкроила, как настоящие получились. Он мне нравился очень. Я по ступеням вниз сошла – там отмель песчаная – так я на отмели присела на корточки – спустила кораблик на воду. И тут вода стеной вздыбилась – чуть меня в реку не смыла, и слышу: дед кричит. «Сара, сюда, скорее!» Кричал так, что я перепугалась. Бросилась наверх. Еле успела. Земля ходуном заходила – так, что стоять невозможно, потом раскололась и река вся в трещину утекла. Ужас такой, господин Хоффман. Деревья падают, камни какие-то, куски асфальта. Люди бегут, а я реву – мне кораблик жалко. Мы с дедом и бабулей выбрались кое-как, а кто дома был – мама, папа, Моника – всех засыпало.
– Моника – это твоя сестра? Она тоже погибла?
– Да... Она болела в тот день, поэтому с нами гулять не пошла. Пошла бы – жива осталась. Она такая была... кра-си-ва-я...
Сара всхлипнула, и Йенс протянул ей бумажную салфетку, в которую девочка сразу уткнулась покрасневшим носом. Как там Элькем говорил: «приходится иногда быть и терапевтом, и психологом...»? Что ж... Иногда Йенс представлял себе, что такой, как Сара, могла вырасти их с Джессикой дочка – легкомысленной болтушкой, упрямым подростком с крашеной чёлкой – и по сердцу проходила волна нежности. Хотелось приобнять девчонку, потрепать по щеке, сказать что-нибудь доброе. Потом вспоминал, что никакая она ему не дочь, и готов был сквозь землю провалиться от неловкости.
– Ну вот, – Сара швырнула мокрую салфетку на столик. – Потом город отстраивать начали – магазины, дома... но, как раньше, уже не стало. Нам с дедом и бабулей муниципалитет квартиру выделил – на отшибе, но мы и тому порадовались, потому что во времянке жили. А через пару лет эти полезли из разлома, как черти из ада.
– Доппельгангеры?
– Ага, доппели. Сначала по темным окраинам шастали, где фонарей нет. А когда с нашими главными договорились, чтобы свет везде выключать и окна задраивать – повсюду начали бродить. Теперь уже мы ночью на улицу выйти не можем. Оккупировали город, – сказала сердито и, заметив удивлённый взгляд Йенса, добавила: – Так дед говорит. А я их ненавижу.
– Сара, а откуда они вылезают? – спросил Йенс. – Доппели?
– Из-под моста, где я упала. Там их главная «дверь». Вы там были, господин Хоффман, видели...
– Нет.
– А почему? – заинтересовалась Сара. – Все, кто к нам, в Андсдорф приезжают, туда ходят. Что-то вроде местного аттракциона, иначе что у нас делать? Говорят: «нам всё равно, мы про них ничего знать не хотим, про ваших двойников», а сами идут.
– Я работать приехал, – сухо ответил Йенс.
«И я не любопытен», – прибавил мысленно.
Он лукавил – и перед Сарой, и перед самим собой. Да, психологию туриста Йенс презирал, и от «местных атракционов» его всегда с души воротило. Не праздным ротозеем явился он в Андсдорф. Дело, однако, заключалось в другом. Ни себе, ни, особенно, малявке – а может, и наоборот: ни ей, ни, особенно, себе – Йенс не мог признаться, какой жути нагнал на него рассказ Сары о подземной музыке. Необъяснимый, ирреальный страх копошился в сердце, стоило только вообразить густые заросли молодых дубков, грибы во мху, тонкие, разрозненные звуки чёрной флейты. Не страх даже, а какое-то тихое отвращение. Пойти к разлому – было то же самое, что в детстве прогуляться по ночному кладбищу. Или ещё хуже. На кладбище Йенс – уж если на то пошло – ничего не потерял, и поход туда представлялся ему бессмысленным геройством, а в разлом его влекли мысли о Джессике.
«Вы там были, господин Хоффман, видели...» – повторил он слова Сары. Почему она говорила так уверенно? Могла ли девчонка что-то знать о его горе? Конечно, могла... и знала. Все знают, что в Андсдорф не приезжают просто так. Это город скорби и скорбящих, и скорбь влечёт людей к таинственной «двери», заставляет писать записки и класть их на карниз «Остерглоке», искать «сумеречную зону». Что же он, Йенс, медлит? Скоро дожди польются, не переставая, стеной. Нудные осенние ливни, которые превращают улицы в реки, а переулки – в сточные канавы. Тогда землю под мостом окончательно развезёт. Потом ударят ноябрьские холода. Поднимаются ли доппельгангеры зимой на поверхность или спят в глубине, окутанные землёй, как личинки насекомых? Йенс понятия не имел, есть ли у двойников обувь и тёплая одежда. Ему они виделись босыми и в лохмотьях – в обносках с человеческого плеча. Едва ли они сами умели ткать и шить, а босиком и раздетыми не очень-то погуляешь по снегу.
«Ладно, убедила девчонка. Погляжу на разлом, – решил Йенс, – эту местную медину и мекку. Пока окончательно не испортилась погода. Узнаю, что там такое. Может, и грибов наберу заодно», – подумал слегка истерично.
Он собирался пораньше уйти с работы, тем более что операций после обеда не намечалось. Оставалась кое-какая писанина, но её не грех было закончить в другой день. Однако в начале четвёртого привезли роженицу с неправильным прилежанием плода, и Йенсу пришлось спуститься в операционную на первом этаже. Пока устанавливал эпидуральный катетер и выполнял прочие рутинные процедуры, заметил: что-то звериное витало в воздухе в доппельгангерском крыле. А ещё – сквозь хлорку и антисептики отчётливо пробивались ароматы земли, цветов и мокрых еловых шишек. То, что в «верхних» отделениях лишь угадывалось, едва различимое, смутное, скорее, воображаемое, чем реальное – в родильном звучало ясной холодной нотой. «Как будто двойники здесь – частые гости», – удивился Йенс.

Кесарево сечение под местной анестезией – операция несложная. Он провёл таких сотню. Пациентка в сознании, но не чувствует боли.
«Доктор, а правда, что от наркоза можно охрометь?» – спрашивает женщина с торчащим носом и впалыми щеками – и Йенс смотрит ей на кончик носа. – У моей знакомой правая нога так и не очнулась – до сих пор как ватная...» – «Всё будет хорошо, – успокаивает он пациентку, – не беспокойтесь, фрау Бопп».
«Отличный мальчик! Поздравляем!»
Недоверчивая гримаса на лице женщины сменяется радостью, почти восторгом. По серым губам улыбкой разливается неожиданная красота.
Через сорок минут Йенс помыл руки и вышел в холл, мечтая о чашечке горячего кофе. Фрау Бопп отвезли в палату. Младенца... а вот и фрау Вернеке с новорождённым, но только как же странно она его несёт! Закутанного с головой в какую-то тряпку – не байковое одеяльце, в которое обыкновенно заворачивают детей, а что-то линялое, непонятного цвета. Держит грубо, поперёк, будто куль с мукой, а не живое существо. Мёртвый ребенок? Не может быть, в операционной он закричал!
Сам не вполне понимая, чего хочет, Йенс двинулся за старшей медсестрой. Ступал мягко, стараясь не шуметь, и с рассеянным видом – на случай, если фрау Вернике обернётся и спросит, что ему, собственно, нужно – но та скользила вперёд, не оглядываясь. Высокая, парящая в пространстве холла фигура в гладких одноразовых бахилах и зелёном халате – прямая, словно швабру проглотила, худая и строгая. Не женщина – мойра.
Вслед за фрау Вернике Йенс прошёл коридор до конца и, свернув направо, оказался в тупике, перед закрытой металлической дверью. Он видел, как медсестра, зажав кулек под мышкой, набрала какое-то число на цифровом замке. Дверь распахнулась – за ней в багровом полумраке обозначилась лесенка, ведущая наверх. Нижняя ступенька была подсвечена двумя тусклыми светодиодами, верхние – терялись во тьме. И запах – всё такой же неуловимо-хищный, острый и свежий одновременно – ударил струёй. Концентрированный аромат леса, пожалуй, приятный, но абсолютно не уместный в провонявшей лекарствами больнице.
Йенс замешкался, не зная, идти ли дальше или сделать что-то другое, может быть, окликнуть медсестру с ребёнком, и пока он раздумывал, та скрылась в узком красном проёме. Тяжёлая дверь захлопнулась за её спиной, запечатав проход в звериное логово. Йенс подёргал ручку – закрыто. Ай да фрау Вернике! Не зря она не понравилась ему с первого взгляда. Йенс не любил сухих, педантичных женщин, а в старшей медсестре ему вдобавок чудилось что-то безжалостное, чтобы не сказать – человеконенавистническое. Мисс Гнусен, чтоб её, омерзительный, но неизбежный среди младшего медицинского персонала типаж.
«Ну ладно, хватит накручивать, – перебил сам себя Йенс. – Так Бог знает до чего додуматься можно», – и поспешил в «человеческое» крыло, на второй этаж.
– Что? – озадаченно переспросил Лемес, выслушав сбивчивый рассказ коллеги. – Отнесла новорождённого доппельгангерам? Да, но... вы просто не в курсе, Хоффман. Это – другое, не то, что вы подумали. Ну, хорошо, я узнаю, в чём дело.
Пока он звонил в родильное отделение, Йенс сварил кофе и разлил в две чашки. Одну пододвинул Лемесу, достал из шкафчика сливки и крекеры и устроился с блюдцем на коленях возле окна. Через металлический карниз, наискосок, протянулся узкий оранжевый блик. Почти вровень с подоконниками второго этажа чернели верхушки тощих больничных кипарисов. Ветер, не по-осеннему тёплый, мягкий и вкрадчивый, колыхал листву, и яркая полоса на карнизе шевелилась, как живая.
«Ещё немного, – размышлял Йенс, меланхолично помешивая ложечкой ароматный напиток, – и осматривать разлом будет поздно. Может, оно и к лучшему. Схожу завтра... А что завтра? Такой же день. Нет, хватит откладывать, сколько можно».
Кофе в чашке медленно принимал закатный оттенок, и Йенсу казалось, что он пьёт маленькими глотками прощальный солнечный свет.
– Всё в порядке, – сообщил Петер Лемес, кладя трубку, – дети – на месте. Доппельгангеры никого не съели. Да шучу, шучу. Это у нас слухи такие ходили в городе – будто они питаются младенцами. Человеческое воображение – страшная штука. Неуправляемая и агрессивная. Будь хоть половина вымыслов правдой, Земля давно превратилась бы в ад. Знаете что, Хоффман? Поговорите-ка лучше с Элькемом. Наверное, вам стоит кое-что увидеть.
– Обязательно, так и сделаю, – заверил его Йенс и, неловко повернувшись, плеснул себе на брюки немного солнца, которое тут же обратилось в неряшливое бурое пятно.
Часы на ратуше только-только пробили половину восьмого, когда он покинул, наконец, больницу, но не направился через центр города – домой, а свернул направо, к Кельтербургскому разлому. В ранних сумерках ландшафт переменился – выглядел хрупким, леденцово-марципановым. Белые домики с черепичными крышами, до самых труб увитые вечнозеленым плющом, таяли в малиновых лучах. Плющом были затянуты и все окна. Дома, точно слепнущие от глаукомы, надели зелёные очки, и Йенс подумал, что район давно оставлен жителями. Улица, вся в заплатах и колдобинах, напоминала порожистую реку, по берегам которой мягко колосились нестриженные газоны. Потом асфальт кончился, и под башмаками заскрипел гравий.
Уродливый шрам, пересекающий Андсдорф, брал начало – и название – в окрестностях деревни Кальтенбург, поворачивал на юго-восток и заканчивался в районе Фрайлассинга на границе с Австрией. Подобраться к нему, не переломав ног, возможно было лишь в тех местах, где муниципальные власти успели разгрести вывороченные базальтовые глыбы и обломки стен старого Анда. По узкой земляной тропинке Йенс спустился под мост – из оврага ему в лицо пахнуло застарелой сыростью.
Он шёл, отводя в сторону ветви, переступая через корни, похожие на толстых белых змей – а может быть, и через змей, похожих на древесные корни. Дубки перемежались с ёлками, цеплялись за штанины длинные плети ежевики. Вокруг становилось всё темнее. Какие уж тут грибы – Йенс с трудом различал носки собственных ботинок. Наврала девчонка. Подростки – такие: врут, как дышат. Он усмехнулся в темноте. Тропинка пропала, затерялась среди жидких кустиков мха. Ещё пара шагов – и Йенс чуть не оступился в очерченную тусклым свечением лишайников щель. Вернее, они не светились, а красновато поблёскивали, как медная посуда. Отражали невидимое солнце. Присев на корточки у самого края, Йенс заглянул вниз. Из щели веяло жутью, как из очень глубокого колодца, и не то что спуститься в разлом, а просто смотреть в него казалось страшнее, чем выйти в открытый космос.
– Джессика? – шепнул Йенс.
Как будто она могла его услышать... Или могла? Он застыл в неудобной позе, боясь пошевелиться. Весь обратился в слух, в ожидание, в глупую надежду. И вдруг – что это? Из глубины мха, словно поднимаясь по хрупким стебелькам, до него донёсся звук, который Сара не зря назвала манком. Он манил. Тихий, как ворчание подземного ручья, и тоскливый, как плач. Что бы это могло быть? Почвенные газы? Ключи? А может, там и в самом деле птица? Ворочается, хлопает крыльями, заливается сладкой трелью. Серая и тонкая, похожая на выпь... Йенс никогда не слышал, чтобы пернатые вили гнезда под землёй, но ведь он не орнитолог. Каких только странных тварей не бывает в природе.
В какой-то момент Йенсу почудилось, что он узнаёт голос Джессики. Кинуться вниз головой, туда, к ней – вот чего ему захотелось, и не важно, что там, в пропасти – камни, скалы, звёзды... Он едва удержался. И, хотя светлее вокруг не стало, отчего-то увидел стволы деревьев по обеим сторонам разлома, и огромную корягу, упавшую поперёк, и чёрный, в оранжевых наростах валун, на котором беспомощно распластался раскисший от дождя самолётик. Здесь играли дети? Чудовищно. Или это были детёныши доппельгангеров?
«А может, письмо, как на карнизе «Остерглоке»? – подумал Йенс и как будто даже разобрал голубые разводы чернил, бывшие когда-то буквами. – Куда только не приводит нас отчаяние. Слабые мы существа, люди».
Его взгляд словно пробил землю и устремился вглубь, по гигантским базальтовым ступеням, по каменному лабиринту, на самое дно – к мёртвой реке, к древнему Анду. «Вот она какая, сумеречная зона, – шептал Йенс. – Видеть без света, понимать то, что постичь невозможно...» Как будто развеялись клубы дыма, и обнажилось яркое, чистое пламя. Он сидел и слушал, и чем больше слушал – тем меньше принадлежал себе.
«Звук – это свет», – корябала в блокноте Торика чернильным карандашом, сточенным до крохотного пенька. Её платье было перепачкано красной глиной, а под ногтями синела грифельная пыль. Торика уместилась на плоском каменном уступе, подолом укутав босые ступни. У ног её лежал Анд.
Она видела Йенса, сидящего на краю разлома, но писала не о нём. Что написать о человеке, который – незванным – подошёл к воротам? «Йенс, что ты ищешь у нас?» – могла бы она спросить, но не решалась приблизиться, чтобы задать вопрос. «Отражения следят за облаками, но облакам нет нужды беспокоиться о своих отражениях. Небо не смотрит в реку», – сказала бы она ему, но знала, что люди не нуждаются ни в чьих словах. Они говорят, но не слышат. Они считают, что Вселенная создана только для них, и не понимают, для кого некоторые птицы поют ночами.
«...это свет, – писала Торика, – белый шум, бесконечное многоцветье белого. В нём больше полутонов, чем у земли и неба, вместе взятых, чем у бегущей воды или стрекозиного крыла. Только уловить его краски можно не глазом, а сердцем.
Когда доппельгангер теряет зрение, потому что его зрачки выжженны солнцем – он освещает себе дорогу музыкой. Такова природа материи, в ней более половины составляет мелодия.
Колокольчики слепых распускаются, как цветы. Их много, очень много – солнце не щадит никого. Слепые блуждают в сумерках – в стране, где нет обмана. День или ночь могут солгать, но на их границе рождается понимание. Когда я хочу увидеть мир настоящим, я встаю на цыпочки, закрываю глаза и тихонько напеваю.
Восемнадцатое октября. Анд, Вилла Гретта».
продолжение следует...
Источник: стихи.ру
Автор: Джон Маверик
Топ из этой категории
 Салон красоты у плиты
Салон красоты у плиты
Вам предстоит простоять у плиты, домашние заждались. Такая перспектива радует далеко не всех женщин. Но существуют...