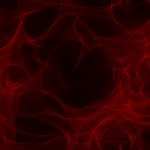Найти чёрную кошку в тёмной комнате 2
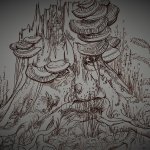
Книги / Необычное
Глава 2
Утром Йенс Хоффман сходил за машиной и завёз вещи на съёмную квартиру. Ключи ему вручила немолодая женщина в длинном коричневом платье, которое она носила гордо и скорбно, как носят траур. Фрау Шмельц, вот как её звали. Йенс поставил чемодан у двери, заметил паутину на люстре и мух на подоконнике и, даже не переодевшись с дороги, отправился на работу.
Поль Элькем приехал к половине девятого. Извинился за опоздание, пошутил насчёт автомобильных пробок. Йенс только грустно улыбнулся – может, раньше в Андсдорфе и бывали транспортные заторы, но сейчас город выглядел полумёртвым.
– Очень, очень рад, господин Хоффман. Как устроились? С персоналом у нас неважно, люди надолго не задерживаются, так что приходится иногда по совместительству быть и терапевтом, и психологом... Пойдёмте, я покажу вам больницу.
Сгорбившись и чуть приволакивая левую ногу, Элькем заспешил по коридору.
– Психолог из меня никакой, – сказал Йенс.
При свете дня всё вокруг казалось другим, банальным и пыльным, несмотря на пахнущую хлоркой чистоту. Высокие потолки в трещинах, темный пол, деревянные рамы. Лампы старые, забранные металлическими решётками. Здание больницы явно нуждалось в ремонте.
– У нас четыре отделения, – рассказывал между тем Элькем, – хирургия, интенсивная терапия, кардиология и терапия широкого профиля. Есть еще родильное, но оно – в другом крыле.
– В «тёмном»? – удивился Йенс.
– Нет, на первом этаже. Доппельгангеры хозяйничают на втором и третьем. Две трети палат пустует. Пациентов мало, и в основном – травматические. После начала эксперимента в городе осталась едва ли пятая часть населения, но процент несчастных случаев очень высок.
– Разлом? – нервно спросил Йенс.
– Да. Если не считать расквашенных в темноте носов, вывихнутых лодыжек и падений с лестниц, то да, разлом.
– И зачем люди туда лезут?
– А как по-вашему, господин Хоффман? Я бы назвал три причины. Некоторые – из любопытства. Если подростки, то из лихости, мол, смотрите, как я крут. Искатели приключений – с ними, если выживут, хлопот меньше всего. Одноглазую девочку больше не интересует, кто живёт в скворечнике... Второй раз обойдут опасное место десятой дорогой. Другие – немножко свихнутые, местные, так сказать, сектанты. Ньюэйджевцы, или как их, дурачков. Зациклены на самопознании. Думают, что встреча с двойниками позволит им лучше понять свою внутреннюю суть. Такие возвращаются редко – и ещё более неадекватными, чем были, с кучей трансцендентных переживаний. Как следствие, новые завербованные сектой идиоты и новые жертвы. К счастью, их мало. И третья группа... – Элькем вздохнул, как показалось Йенсу, с тоской, – самая большая, это те, кто пережил потерю и мечтают о новой встрече с близкими... Вот только... Доброе утро, фрау Вельке! Йенс Хоффман, наш новый коллега. Анестезиолог из Мюнхена. Да, надолго. Господин Хоффман, это фрау Вельке, она сегодня дежурная по хирургии, – сказал Элькем, и Йенс пожал вялую руку старшей медсестры.
Фрау Вельке кивнула им с достоинством и тотчас принялась жаловаться на какого-то престарелого пациента. Тот, будучи, судя по всему, в маразме, два раза за утро срывал бинты и расчёсывал рану. Не дай бог, инфекция. Поль Элькем качал головой, а Йенс рассеянно слушал, пытаясь собраться с мыслями. В душе осталось странное раздражение, как будто он не додумал что-то важное.
Первая половина дня пролетела быстро. Новая больница, новые люди. Йенс надеялся, что смена обстановки поможет ему развеяться и приглушит чувство вины. Однако вышло иначе. Плотно закрытая металлическая дверь в конце каждого коридора пугала, притягивала взгляд и каким-то непостижимым образом обостряла скорбь.
Женщина, которую он любил и потерял – не здесь ли она? Вернее, та, что похожа на неё. Так ли велико сходство доппельгангеров с людьми, как говорят? Ведь каждый человек – это не только уникальная комбинация генов, но всё его прошлое, слёзы и радость, тысячи улыбок, сотни тысяч слов, сказанных кому-то, миллионы крохотных, сладких мгновений близости, пробы и ошибки, обида, раскаяние, стыд... Что из этого способны разделить с нами двойники?
И всё-таки при мысли о том, что Джессика, пусть и не та самая, не его Джессика, но тёплая и живая – где-то рядом, горло у Йенса делалось узким, точно зашнурованным, и кружилась голова.
После обеда он заглянул к Саре Кельтербах. Маленькая одноместная палата, больше похожая на номер в дешёвой студенческой гостинице. На стенах – постеры с певцами и певичками в полный рост. Видно, что и те и другие безголосые – глотают микрофон. Огромный плакат с кадрами из фильма «Полнолуние». Про вампиров, что ли? Йенс не знал. Что-то культовое у молодёжи. На прикроватном столике, вокруг ночника, в беспорядке раскиданы щётка, пилочка для ногтей, карманное зеркальце, палочка для завивки волос, розовый мобильник, расчёска, заколки, пузырьки всякие... Книга в мягкой обложке. Все эти милые девчачьи мелочи. Йенса точно кольнуло что-то под левую лопатку. Так – или почти так – выглядела девять лет назад комната Джессики, тогда ещё совсем девчонки. Не четырнадцатилетней, конечно, как Сара. Когда они познакомились, Джессике только-только исполнилось восемнадцать, и на стенах висели другие постеры, и телефон был толще – складной, в кожаном чехле, таких сейчас не выпускают.
«Я прямо как старик, – про себя усмехнулся Йенс. – Впору лекции читать: а вот в наше время...».
Сара полулежала на кровати, опираясь на подушку, растрёпанная, в лёгком халатике поверх ночной рубашки и с телевизионным пультом в руке. Телевизор работал без звука – чтобы не тревожить больных в соседних палатах.
– Привет, – поздоровался Йенс и опустился на стул возле кровати. – Как самочувствие? Вижу, ты сегодня без капельницы? Боли прошли?
Девочка посмотрела на него и сняла наушники.
– Что?
– Как себя чувствуешь? – терпеливо повторил Йенс.
– Нормально.
– Испугал я тебя ночью?
Она недовольно – как показалось Йенсу – повела плечом.
– Ну-ууу...
– Извини, – сказал он, – я здесь человек новый. Хотел помочь, и вот что получилось.
Йенсу неловко было от ее любопытного взгляда, чуть нагловатого, как у любого подростка. Или это маска, под которой скрывается беззащитность? Да, наверное, так.
– Меня что, опять будут оперировать? – подозрительно спросила девочка.
– Нет, почему?
– Вы ведь это... анестезиолог? Господин...
– Хоффман. Йенс Хоффман. А скажи, Сара, – он помедлил, а потом собрался с духом и задал тот единственный вопрос, который хотел задать, – что ты искала в разломе?
Девчонка нахмурилась. Сдвинула к переносице тонкие золотые брови, неумело выщипанные и оттого какие-то по-цыплячьи жалкие.
– Ничего, – ответила сердито. – Ничего я не искала, а просто собирала грибы. Там, в дубняке их столько... – она развела руки, словно обнимая громадную корзину, – всяких. Боровики, грифолы, польские белые... это которые, как боровики, только под шляпкой тёмное, рыжики, поддубовики, овечки...
– Овечки? – удивлённо переспросил Йенс. – И что же ты, гуляла в подлеске и оступилась?
– Нет. Я под мостом искала... Там, где подлесок, темно, как в печке. А у разлома мох густой и травы почти нет. Сам разлом открыт, не заслонён ничем, только края скользкие, все в лишайниках. А лишайники светятся – бледно-оранжевым. Сразу видно. Так что упасть я не боялась. Ползала на карачках и шляпки грибные во мху щупала... И вот, слышу, из-под земли словно манок зовет... Тоненько и жалобно, и тихо совсем, но так, что не подчиниться нельзя – ноги сами идут.
– Погоди, – перебил ее Йенс, – кто звал? Человеческий голос?
– Не-а, не человеческий. Скорее, птичий, – Сара задумалась, – или звериный какой... Чудной голос. Вроде как искажённый пустотой. Точно павлин в бочку кричит.

Она замерла, наклонив голову и прислушиваясь, как будто странный манок всё ещё продолжал звучать у неё внутри.
«Павлин, – изумился Йенс, – да ещё и в бочке? Ну и фантазия у пигалицы!» Ему представился Дудочник, который, играя на маленькой чёрной флейте, заманивает в разлом беспечных детей. Худой, длиннорукий силуэт, хоронящийся в камнях, среди лишайников. Призрак Гамельнского Крысолова? А почему бы и нет? Далеко ли отсюда Гамельн?
– И что, Сара? – спросил он тихо. – Что было дальше?
– А то! Я словно во сне брела или как тяжелобольная. И про грибы забыла – жалко, пол-лукошка насобирала уже. Добрела, значит, и присела у самого разлома, на светящемся краю. А звук такой удивительный стал – словно картинку рисовал, так что я и камни, и коридор подземный увидела... И вдруг начала скользить, вроде как с горки на санках, всё быстрее и быстрее. Хваталась за мох, а он оползал. Потом меня кто-то ухватил за ноги и потянул... И... и...
– Что?
Девчонка закусила губу и уставилась в телевизор. Её нос как будто заострился – тонкий и прозрачный, он казался очень хрупким на побледневшем лице. На экране двое мужчин с фонариками, согнувшись в три погибели, ломились сквозь низкие заросли орешника. Сзади них что-то ритмично вспыхивало, а над головами разливались блёклые сумерки цвета топлёного молока.
Йенс взял с одеяла пульт и переключил канал.
– Не хочешь говорить, не надо, – сказал мягко, и поднялся, чтобы идти. – Отдыхай.
– Я их узнала, – прошептала Сара, и страх плавал в её глазах, и растерянность, и детское злое разочарование. – Это они... хотели меня убить...
Самый жуткий сон, от которого вскакиваешь в поту – это кошмар предательства. Когда из-под маски близкого человека неожиданно вылезает чудовище и пробует тебя на зуб. Тогда доверие к миру осыпается быстрее, чем стены под ударами чугунной бабы, а сам мир превращается в место зыбкое и опасное. Так размышлял Йенс, вспоминая разговор с Сарой. Кто напал на девчонку в разломе? Кто-то хорошо знакомый, а скорее всего, доппельгангер кого-то хорошо знакомого. В принципе, это могли быть чьи угодно двойники: соседей, друзей... родителей?
Ужас, непередаваемый ужас для ребёнка: мать и отец – оборотни. Враги. Самые родные, любимые, те, кто призван беречь и защищать. Йенс представил себе и поёжился. А что бы он сам почувствовал, явись ему Джессика в виде какого-нибудь монстра? Даже человеческая психика скрывает порой нечеловеческие глубины. Что уж говорить о пещерных тварях?
Вечером Элькем и Йенс прогуливались по центру города. В ядовито-жёлтом свете заката Андсдорф выглядел обыкновенным провинциальным городком, грустным и немного сказочным. Разве что непривычно безлюдным. Дул мокрый ветер и гнал по мостовой палую листву. Многие окна были закрыты ставнями, что придавало домам вид нежилой и диковатый. Йенс заметил, что на улицах почти не видно машин.
– Мы привыкли ходить пешком, – сказал Поль Элькем, словно угадав его мысли. – Этот запрет на ночное вождение так неудобен. Если темнота застанет за рулем – приходится бросать автомобиль, где попало. Да и расстояния здесь небольшие.
Он шёл медленно, тяжело ступая, и только глухой стук каблуков по асфальту да стон ветра в причудливо изломанных карнизах нарушали тишину. Йенс, напротив, старался двигаться бесшумно, словно боялся разбудить нечто, дремлющее в недрах земли.
– Это Банхофштрассе, пешеходная зона, – объяснил Элькем, сворачивая на широкую, крытую брусчаткой улицу. Здесь было немногим оживленнее, разве что изредка навстречу попадались прохожие, да и те опасливо жались к стенам. Блестели пустые витрины. Кое-где в полумраке магазинчиков притаились стыдливо закутанные в ткань манекены. Они стояли поодиночке и группами, в разных позах, и Йенс поначалу принял их за людей в какой-то спецодежде.
– Напоминает Венецию, – подумал он вслух.
– Это ещё почему? – изумился Элькем.
– Красотой мёртвого пейзажа. Здания по берегам улиц-каналов почти все непригодны для жилья. Сырость там страшная. Покинутые дома, гнилые изнутри, а между ними – потрясающей голубизны море. И буйство цветов. Длинные гондолы. Туристы с праздничными улыбками.
Элькем хмыкнул.
– Гондол и туристов у нас нет, а в остальном – очень похоже. Особенно, если учесть, что Венеция постепенно уходит под воду... Смотрите, Хоффман, «Остерглоке», наш «ночной клуб».
– Да, мне Лемес рассказывал. Вот это?
Йенс удивлённо разглядывал махровые от пыли – приоткрытые – ставни, неширокие наличники, краска на которых давно облупилась, световую вывеску, такую же грязную, как и всё остальное, с наклонённой буквой «g» и большой «o», стилизованной под звёздчатый колокольчик нарцисса. Из-под надписи торчали обрывки проводов. Сквозь пыльные оконные стёкла виднелись серые занавески и кусочек прокуренного потолка. На двери висел амбарный замок.
– Вот это? – повторил Йенс, точно не веря своим глазам. – Этот старый сарай? Но здесь же закрыто!
– У доппельгангеров есть ключ. Они не любят, когда кто-то вторгается в их штаб-квартиру, наверное, потому и выбрали такое место. И всё равно люди пишут им записки и пытаются засунуть внутрь – сквозь замочную скважину – или оставляют на карнизе.
Действительно, у окна, под самой рамой, белели сиротливые бумажные шарики – настолько размокшие, что при всем желании никто уже не смог бы их развернуть и прочесть.
– К тому же, – добавил Элькем веско, – их эстетическое чувство сильно отличается от нашего.
– Я так понял, они не отвечают на письма? – спросил Йенс.
– Насколько я их знаю – вряд ли. Но только кто же их по-настоящему знает? – Элькем вздохнул и зачем-то задрал голову к небу, туда, где лёгкие, как яблоневый цвет, облака наливались холодным сумеречным серебром. – У нас ещё минут сорок. Здесь быстро темнеет.
Они снова неторопливо двинулись вниз по улице. Йенс считал запертые двери.
– Тут кто-нибудь вообще торгует?
– Да, пара лавочек. Вон там, на углу с Фридрих-штрассе – булочная, а рядом с ней – аптека «зелёного креста». Через три дома – кнайпа «Дирндл», не «их» кнайпа – наша. Между прочим, там подают неплохое пиво. Только что мы прошли кофейню «Шибо», а тот полукруглый дом – магазин электротоваров «Лихтенштайн».
– Это фамилия владельца, – полюбопытствовал Йенс, – или страна, откуда он родом?
– Понятия не имею, – признался Элькем. – У нас его все зовут просто Ханс, хотя на самом деле у него какое-то сложное восточное имя. Но он и в самом деле продаёт светильники из камней. Хотите заглянуть?
Перешагнув порог, они очутились в подобии каменного грота – холодного и сырого, точно выдолбленного в скале. В одном месте с потолка даже лилась вода, но, приглядевшись, Йенс понял, что это гибкие светодиодные ленты, подвешенные на металлическом крюке. На узких полках и прямо на полу стояли камни – шарообразные, пирамидальные, гладкие или неровные, как отколотый кусок горной породы. Некоторые были включены в розетку, другие, очевидно, питались от батареек или аккумуляторов. Большинство горели ярко, как апрельские звёзды – изумрудным или нежно-салатовым, и только в дальнем конце грота, в небольшой нише, ютились тускло-багровые соляные уродцы.
– На свет в нашем городе большой спрос, – улыбнулся Элькем, – почти как на хлеб или на мясо. Заметьте, Хоффман, как точно этот магазинчик отражает потребности человеческой души. Огромная территория покоя и безопасности, и крохотный уголок любопытства...
Йенс кивнул. Трудно не согласиться. Зелёные лампы, очевидно, должны были отпугивать доппельгангеров, тёмно-красные – приглашали к диалогу.
Из подсобки вышел, потирая руки, Ханс – тощий, похожий на турка старик в кожаных брюках и ветхой джинсовой куртке – и поинтересовался у Элькема здоровьем какой-то Марты.
– Ещё три дня – и можно снимать швы, – бодро откликнулся тот. – В понедельник выпишем. А это мой коллега, Йенс Хоффман. Он приехал из Мюнхена сегодня ночью.
– Я счастлив, господин Хоффман, – вежливо сказал Ханс, – предложить вам самый качественный в Андсдорфе товар. Отличные светильники на любой вкус. Ручная работа дизайнеров из Голландии, Австрии, Италии и Финляндии. Что желаете приобрести? Ночник, который станет вашим прикроватным солнцем? Изысканное бра или настольную лампу, чтобы уютно читать в её полезном для зрения...
Элькем нетерпеливо махнул рукой.
– Да-да, всё ясно. Хоффман, вам нужна лампа? Если нет, то пойдёмте, пока на улице не стемнело. Может, ещё успеем заглянуть в «Дирндл». Перехватим по сандвичу. Я, как и вы, Хоффман, холостяк и не люблю готовить дома.
Йенс купил зеленый ночник и две батарейки к нему. А пиво в кнайпе и в самом деле оказалось отменным.
Дома он ещё раз оглядел коробку и понял, что ни голландские, ни австрийские мастера не приложили руку к изготовлению светильника. Под названием никому не известной фирмы «L & H» мелкими буквами стояло: «Сделано в Китае». Йенс пожал плечами и водрузил нераспакованную лампу на тумбочку. Нет, он не удивился. Ему иногда – а последнее время всё чаще – представлялось, что весь этот бутафорский мир с его дешёвыми страстями – сделан в Китае. Разноцветные пластмассовые фигурки коллег и друзей. Одинаковые города, улицы, здания. Бесконечные ток-шоу и голливудские драмы по телевизору. Слова и чувства, будто сошедшие с конвейера. Только Джессика была другой. Джессика была из иного теста, единственной, уникальной, узнаваемой даже по звуку шагов. Когда такие люди уходят – их некем заменить и нечем заделать брешь в собственной жизни.
Квартира, которую Йенс в утренней спешке не успел осмотреть, оказалась довольно уютной. Скошенные деревянные потолки, стол, диван, пара плетёных стульев и кресло-качалка, шкаф с большим зеркалом и тумбочка. Кухонный уголок с плитой, раковиной и холодильником. У стены – телевизор и полка с книгами. На двери привычно белел листок с «хаусорднунгом» – типовой список предписаний и правил. Не шуметь после восьми вечера и по воскресеньям, не курить в коридорах – очевидно, там находились датчики противопожарной сигнализации, не выбрасывать мусор в неположенные места. В отдельном пункте рассказывалось, как правильно устроить затемнение.
Йенс вздохнул и, подойдя к окну, задвинул ставни – плотно, чтобы нигде не оставалось зазора, потом опустил скатанную в рулон шторку и под конец – задёрнул занавески. Проделав всё это, он включил свет. И штора, и занавески пахли сосновой стружкой, пылью и ещё чем-то затхлым, неприятным. Как будто в квартире долго-долго жила древняя старуха, и все предметы пропитались её запахом. Йенс наугад выбрал с полки несколько брошюрок – полистать, и устроился в кресле-качалке. Не хотелось разбирать вещи. Вообще ничего не хотелось. Раньше чемоданами занималась Джессика, потому что Йенс терпеть не мог рыться в одежде и белье. Теперь, когда её не стало, всё приходилось делать самому, и один вид приоткрытого пустого шкафа вызывал приступ болезненной тоски.
В первой книжице – совсем тоненькой, с неброской обложкой – речь шла о «земляном народце», который обитает в заброшенных штольнях и тяжко страдает от болезней и голода. «Их тела покрыты язвами и коростой, а конечности искривлены, – писал автор, – и лёгкие забиты угольной пылью – так, что каждый вдох причиняет несчастным боль. В некоторых штольнях так тесно, что людям приходится стоять на плечах друг у друга...».
Йенса передёрнуло от жалости и отвращения.
«Нет, едва ли это про доппельгангеров, – подумал он. – Мало ли, что за народец. Сколько в океане рыб и всяких прочих тварей. А ведь земля глубже океана...»
Сама мысль о том, что пусть и не Джессика, но та, что похожа на неё, задыхается в тесноте, мучаясь от голода и язв, показалась ему невыносимой.
«А может, это просто такое поэтическое сочинение о трудной доле шахтёров?»
Йенс отложил брошюрку и взял другую. Посмотрел и хотел уже сунуть обратно на полку, потому что это была сказка, а сказки он не любил. Однако что-то притянуло его внимание, заставило вчитаться в наивный, нарочито детский текст.
Книжка называлась «Узнать в темноте» и рассказывала историю восьмилетней девочки-аутсайдера, которая подружилась с собственным двойником. Двойник этот – хоть и ни разу не названный в сказке доппельгангером – боялся солнечного света и с героиней встречался в некоей «сумеречной зоне». Что это такое и где находится – Йенсу оставалось только гадать. Почему-то для того, чтобы видеть в сумерках, девчонки все время пели. «И серость отступала, и возгорались краски...».
Выдумка? Красивая аллегория? А как приятно помечтать. Что есть на свете такая «сумеречная зона», где они с Джессикой могут быть вместе, как прежде – в безвозвратно минувшем. Сказка или не сказка, но пусть она окажется правдой.
«Пожалуйста, тот-в-кого-верим-мы-все-и-даже-атеисты, если ты есть и слышишь меня, пусть она окажется правдой!»
«Кто это сочинил, когда?» – спросил себя Йенс и, открыв титульный лист, принялся изучать выходные данные книги. Год издания – 1986-й? Ого! Как удивительна порой авторская фантазия! В 1986-м о доппельгангерах ещё никто ничего не знал. Первые заметки о них появились в интернете в 2001-м году. Мистические столкновения с самими собой на ночных пустырях, под мостами, на тёмных чердаках и в подвалах. Загадочные «чёрные люди», бегущие от луча карманного фонарика. Этим историям верили не больше, чем постам о йети. Столько мусора болтается в сети, что любая правда – даже самая кричащая – тонет в нём, как в болоте. Однако через пару лет баварское телевидение показало передачу о двойниках. Йенс помнил её смутно: коротенький репортаж из Андсдорфа, интервью с доктором Элькемом, который уже тогда заведовал больницей, какие-то анекдоты и слухи... Статейка в «Бильде» на целый разворот с кучей жареных фактов и нелепых домыслов. Именно в ней впервые прозвучало слово «эксперимент». Потом что-то такое прошло по каналу ARTE – радио и телевидения Люксембурга. И всё – как отрезало. Никаких упоминаний о «ночных соседях» – ни в газетах, ни в сети, ни на экране. Доппельгангеры вмиг сделались незаметны для блоггеров и СМИ, как самолёты-невидимки для вражеских локаторов.
Это было странно, очень странно – и даже походило на массовый гипноз – но Йенса в тот момент не интересовали ни двойники, ни Андсдорф. Джессика умирала...
В последние дни она сделалась сама на себя не похожа – отёкшая, жёлтая, словно постаревшая лет на двадцать. Йенс едва узнавал измученную, лежащую на кровати женщину, не понимал, кто она ему. Иногда он с завистью размышлял о добиблейских временах, когда люди не знали своего срока, а просто чихали – и с судорожным выдохом из тела уходила душа. Кому и зачем нужны долгая слабость, мучительное парение между небом и землёй, прощание – изо дня в день? Кому нужна боль, которая очищает душу, сдирая с неё одну одёжку за другой? Никому от них не легче – ни тому, кто уходит, ни тому, кто остаётся. Йенс устал и молил Бога, чтобы всё поскорее закончилось. Думал, ему станет легче. Не стало...
Не отпускала Джессика. Снилась каждую ночь и – хоть не упрекала – но одним своим присутствием вынуждала оправдываться, вспоминать, ворошить дни, как опавшие листья. Йенс чувствовал себя карусельной лошадкой, которую жёсткий шест, вцепившись в загривок, принуждает идти по кругу – и перелистывал, бесконечно перелистывал страницы назад... Вспоминал, как за два года до смерти его жена совершила символическое самоубийство: в пылу ссоры порвала свои детские фотографии, все до единой. Она была аккуратной, Джессика, не швырялась вещами, не била посуды – но даже после незначительной размолвки с Йенсом черты её заострялись. Она впадала в такую тоску, что начинала крушить себя изнутри. А там, внутри – душа настолько хрупкая, что раз повернёшься в гневе, и все, остались одни черепки.
Если убить прошлое – настоящее обречено. Дерево сохнет без корней. Потом Йенс долго склеивал снимки – собирая их, как мозаику, по кускам и не понимая, за что пострадала грустная большеглазая девочка. Грубый бумажный шов пересёк её лоб, вырвал из рук мишку... Разве её вина, что двое взрослых людей не поняли друг друга?
Он и не заметил, как потускнел свет в комнате. Из углов наползал плотный коричневый туман. Книжка исчезла с коленей, а вместо неё появилась старая, кое-как склеенная фотография. «Да я, похоже, задремал», – догадался Йенс. Он знал, что если сейчас поднимет взгляд, то увидит Джессику.
«Зря не лёг на диван. Не годится спать в кресле, утром разболится спина», – сказал то ли себе, то ли ей.
«А у меня как болела», – возразила Джессика и мягко отделилась от занавески.
«Я не вижу тебя, – пробормотал Йенс. Мутный силуэт колыхался на сквозняке, словно дым от костра. Откуда сквозняк – ведь окно закрыто? – Где мы, кузнечик, милый? – забытое слово, как пилой по сердцу. – Это сумеречная зона, да?»
«Да», – ответила она. Не сказала, а пропела сладкоголосо, и от звука её дрожащего сопрано вдруг просияли цвета, такие яркие, будто не свет хлынул в комнату, а какой-то химический раствор, который смывает всё лишнее с предметов и выявляет их красочную суть.
«...Есть краски мягкие, глухие, от которых глазам тепло, но не больно. Такими сияет земля и горят камни, остывая от дневного жара. Светятся корни и гнилушки. Мох и стебли растений. А есть – жгучие, как кислота, прекрасные до обморока, до остановки дыхания. Это краски неба. Смотреть на него можно туманными ночами, когда нет звёзд и луну застилают облака. Но даже тогда не выдержать более трёх минут – зелёного, голубого, розового. Зато потом, отведя взгляд, несколько минут видишь настоящую темноту. «Человеческая тьма», как я её называю. Не подлинное отсутствие света – ибо такое невозможно – а темнота обожжённых зрачков. Вселенная лучезарна – но знает об этом лишь тот, у кого глаза прозрачны, а не затянуты бельмами».
Торика свернулась калачиком в чём-то громоздком и зачехлённом, похожем на зубоврачебное кресло. Сидела поверх чехла и писала в блокноте чернильным карандашным огрызком. Карандашный грифель толще пера, и буквы выходили не острыми, убористыми, а гладкими и сытыми, как пауки. Вдобавок его приходилось все время слюнявить, отчего язык и губы у Торики стали горькими. Она писала быстро и сбивчиво, но не потому, что её торопил рассвет. За тонкой стенкой плакал человеческий ребёнок. Звук утомлял, сбивал с мысли. Торика ошибалась и вымарывала целые куски. Она не вычёркивала неправильное, как обыкновенно поступают люди, а ставила в скобки.
«Так мы угасаем приятно и медленно, растворяемся в родниковой воде, в траве и глине. Смерть человека – нередко болезненна, точно крик филина, оглушает и причиняет страдания, и след от неё стелется по ветру, как тина и грязь по течению реки.
Когда Джессика заболела, я сразу почувствовала – это конец. Еще раньше, чем Йенс, раньше, чем она сама. Что-то случилось с её волосами – они потускнели, выцвели, словно из них ушла сила, и мне всё время хотелось сдуть с них пыль, чтобы они снова заблестели. Наверное, часть души покидает людей ещё до смерти – догадалась я – и это необратимо. А ещё – её легко вспугнуть. Люди глупы и неуклюжи, а души у них пугливы, как птицы или бабочки. Прилетают нечаянно, по первому зову, а порой и вовсе – незванные. Улетают, стоит лишь хлопнуть в ладоши. Поэтому живут люди недолго».
Торика задумчиво лизнула грифель и заключила в скобки последнюю фразу.
«Поэтому они живут от хлопка до хлопка. А мы – от начала до конца....
Неизвестно, что лучше».
Скобки.
«Шестое октября. Андсдорф, больница Санкт-Йосеф».
продолжение следует..
Утром Йенс Хоффман сходил за машиной и завёз вещи на съёмную квартиру. Ключи ему вручила немолодая женщина в длинном коричневом платье, которое она носила гордо и скорбно, как носят траур. Фрау Шмельц, вот как её звали. Йенс поставил чемодан у двери, заметил паутину на люстре и мух на подоконнике и, даже не переодевшись с дороги, отправился на работу.
Поль Элькем приехал к половине девятого. Извинился за опоздание, пошутил насчёт автомобильных пробок. Йенс только грустно улыбнулся – может, раньше в Андсдорфе и бывали транспортные заторы, но сейчас город выглядел полумёртвым.
– Очень, очень рад, господин Хоффман. Как устроились? С персоналом у нас неважно, люди надолго не задерживаются, так что приходится иногда по совместительству быть и терапевтом, и психологом... Пойдёмте, я покажу вам больницу.
Сгорбившись и чуть приволакивая левую ногу, Элькем заспешил по коридору.
– Психолог из меня никакой, – сказал Йенс.
При свете дня всё вокруг казалось другим, банальным и пыльным, несмотря на пахнущую хлоркой чистоту. Высокие потолки в трещинах, темный пол, деревянные рамы. Лампы старые, забранные металлическими решётками. Здание больницы явно нуждалось в ремонте.
– У нас четыре отделения, – рассказывал между тем Элькем, – хирургия, интенсивная терапия, кардиология и терапия широкого профиля. Есть еще родильное, но оно – в другом крыле.
– В «тёмном»? – удивился Йенс.
– Нет, на первом этаже. Доппельгангеры хозяйничают на втором и третьем. Две трети палат пустует. Пациентов мало, и в основном – травматические. После начала эксперимента в городе осталась едва ли пятая часть населения, но процент несчастных случаев очень высок.
– Разлом? – нервно спросил Йенс.
– Да. Если не считать расквашенных в темноте носов, вывихнутых лодыжек и падений с лестниц, то да, разлом.
– И зачем люди туда лезут?
– А как по-вашему, господин Хоффман? Я бы назвал три причины. Некоторые – из любопытства. Если подростки, то из лихости, мол, смотрите, как я крут. Искатели приключений – с ними, если выживут, хлопот меньше всего. Одноглазую девочку больше не интересует, кто живёт в скворечнике... Второй раз обойдут опасное место десятой дорогой. Другие – немножко свихнутые, местные, так сказать, сектанты. Ньюэйджевцы, или как их, дурачков. Зациклены на самопознании. Думают, что встреча с двойниками позволит им лучше понять свою внутреннюю суть. Такие возвращаются редко – и ещё более неадекватными, чем были, с кучей трансцендентных переживаний. Как следствие, новые завербованные сектой идиоты и новые жертвы. К счастью, их мало. И третья группа... – Элькем вздохнул, как показалось Йенсу, с тоской, – самая большая, это те, кто пережил потерю и мечтают о новой встрече с близкими... Вот только... Доброе утро, фрау Вельке! Йенс Хоффман, наш новый коллега. Анестезиолог из Мюнхена. Да, надолго. Господин Хоффман, это фрау Вельке, она сегодня дежурная по хирургии, – сказал Элькем, и Йенс пожал вялую руку старшей медсестры.
Фрау Вельке кивнула им с достоинством и тотчас принялась жаловаться на какого-то престарелого пациента. Тот, будучи, судя по всему, в маразме, два раза за утро срывал бинты и расчёсывал рану. Не дай бог, инфекция. Поль Элькем качал головой, а Йенс рассеянно слушал, пытаясь собраться с мыслями. В душе осталось странное раздражение, как будто он не додумал что-то важное.
Первая половина дня пролетела быстро. Новая больница, новые люди. Йенс надеялся, что смена обстановки поможет ему развеяться и приглушит чувство вины. Однако вышло иначе. Плотно закрытая металлическая дверь в конце каждого коридора пугала, притягивала взгляд и каким-то непостижимым образом обостряла скорбь.
Женщина, которую он любил и потерял – не здесь ли она? Вернее, та, что похожа на неё. Так ли велико сходство доппельгангеров с людьми, как говорят? Ведь каждый человек – это не только уникальная комбинация генов, но всё его прошлое, слёзы и радость, тысячи улыбок, сотни тысяч слов, сказанных кому-то, миллионы крохотных, сладких мгновений близости, пробы и ошибки, обида, раскаяние, стыд... Что из этого способны разделить с нами двойники?
И всё-таки при мысли о том, что Джессика, пусть и не та самая, не его Джессика, но тёплая и живая – где-то рядом, горло у Йенса делалось узким, точно зашнурованным, и кружилась голова.
После обеда он заглянул к Саре Кельтербах. Маленькая одноместная палата, больше похожая на номер в дешёвой студенческой гостинице. На стенах – постеры с певцами и певичками в полный рост. Видно, что и те и другие безголосые – глотают микрофон. Огромный плакат с кадрами из фильма «Полнолуние». Про вампиров, что ли? Йенс не знал. Что-то культовое у молодёжи. На прикроватном столике, вокруг ночника, в беспорядке раскиданы щётка, пилочка для ногтей, карманное зеркальце, палочка для завивки волос, розовый мобильник, расчёска, заколки, пузырьки всякие... Книга в мягкой обложке. Все эти милые девчачьи мелочи. Йенса точно кольнуло что-то под левую лопатку. Так – или почти так – выглядела девять лет назад комната Джессики, тогда ещё совсем девчонки. Не четырнадцатилетней, конечно, как Сара. Когда они познакомились, Джессике только-только исполнилось восемнадцать, и на стенах висели другие постеры, и телефон был толще – складной, в кожаном чехле, таких сейчас не выпускают.
«Я прямо как старик, – про себя усмехнулся Йенс. – Впору лекции читать: а вот в наше время...».
Сара полулежала на кровати, опираясь на подушку, растрёпанная, в лёгком халатике поверх ночной рубашки и с телевизионным пультом в руке. Телевизор работал без звука – чтобы не тревожить больных в соседних палатах.
– Привет, – поздоровался Йенс и опустился на стул возле кровати. – Как самочувствие? Вижу, ты сегодня без капельницы? Боли прошли?
Девочка посмотрела на него и сняла наушники.
– Что?
– Как себя чувствуешь? – терпеливо повторил Йенс.
– Нормально.
– Испугал я тебя ночью?
Она недовольно – как показалось Йенсу – повела плечом.
– Ну-ууу...
– Извини, – сказал он, – я здесь человек новый. Хотел помочь, и вот что получилось.
Йенсу неловко было от ее любопытного взгляда, чуть нагловатого, как у любого подростка. Или это маска, под которой скрывается беззащитность? Да, наверное, так.
– Меня что, опять будут оперировать? – подозрительно спросила девочка.
– Нет, почему?
– Вы ведь это... анестезиолог? Господин...
– Хоффман. Йенс Хоффман. А скажи, Сара, – он помедлил, а потом собрался с духом и задал тот единственный вопрос, который хотел задать, – что ты искала в разломе?
Девчонка нахмурилась. Сдвинула к переносице тонкие золотые брови, неумело выщипанные и оттого какие-то по-цыплячьи жалкие.
– Ничего, – ответила сердито. – Ничего я не искала, а просто собирала грибы. Там, в дубняке их столько... – она развела руки, словно обнимая громадную корзину, – всяких. Боровики, грифолы, польские белые... это которые, как боровики, только под шляпкой тёмное, рыжики, поддубовики, овечки...
– Овечки? – удивлённо переспросил Йенс. – И что же ты, гуляла в подлеске и оступилась?
– Нет. Я под мостом искала... Там, где подлесок, темно, как в печке. А у разлома мох густой и травы почти нет. Сам разлом открыт, не заслонён ничем, только края скользкие, все в лишайниках. А лишайники светятся – бледно-оранжевым. Сразу видно. Так что упасть я не боялась. Ползала на карачках и шляпки грибные во мху щупала... И вот, слышу, из-под земли словно манок зовет... Тоненько и жалобно, и тихо совсем, но так, что не подчиниться нельзя – ноги сами идут.
– Погоди, – перебил ее Йенс, – кто звал? Человеческий голос?
– Не-а, не человеческий. Скорее, птичий, – Сара задумалась, – или звериный какой... Чудной голос. Вроде как искажённый пустотой. Точно павлин в бочку кричит.

Она замерла, наклонив голову и прислушиваясь, как будто странный манок всё ещё продолжал звучать у неё внутри.
«Павлин, – изумился Йенс, – да ещё и в бочке? Ну и фантазия у пигалицы!» Ему представился Дудочник, который, играя на маленькой чёрной флейте, заманивает в разлом беспечных детей. Худой, длиннорукий силуэт, хоронящийся в камнях, среди лишайников. Призрак Гамельнского Крысолова? А почему бы и нет? Далеко ли отсюда Гамельн?
– И что, Сара? – спросил он тихо. – Что было дальше?
– А то! Я словно во сне брела или как тяжелобольная. И про грибы забыла – жалко, пол-лукошка насобирала уже. Добрела, значит, и присела у самого разлома, на светящемся краю. А звук такой удивительный стал – словно картинку рисовал, так что я и камни, и коридор подземный увидела... И вдруг начала скользить, вроде как с горки на санках, всё быстрее и быстрее. Хваталась за мох, а он оползал. Потом меня кто-то ухватил за ноги и потянул... И... и...
– Что?
Девчонка закусила губу и уставилась в телевизор. Её нос как будто заострился – тонкий и прозрачный, он казался очень хрупким на побледневшем лице. На экране двое мужчин с фонариками, согнувшись в три погибели, ломились сквозь низкие заросли орешника. Сзади них что-то ритмично вспыхивало, а над головами разливались блёклые сумерки цвета топлёного молока.
Йенс взял с одеяла пульт и переключил канал.
– Не хочешь говорить, не надо, – сказал мягко, и поднялся, чтобы идти. – Отдыхай.
– Я их узнала, – прошептала Сара, и страх плавал в её глазах, и растерянность, и детское злое разочарование. – Это они... хотели меня убить...
Самый жуткий сон, от которого вскакиваешь в поту – это кошмар предательства. Когда из-под маски близкого человека неожиданно вылезает чудовище и пробует тебя на зуб. Тогда доверие к миру осыпается быстрее, чем стены под ударами чугунной бабы, а сам мир превращается в место зыбкое и опасное. Так размышлял Йенс, вспоминая разговор с Сарой. Кто напал на девчонку в разломе? Кто-то хорошо знакомый, а скорее всего, доппельгангер кого-то хорошо знакомого. В принципе, это могли быть чьи угодно двойники: соседей, друзей... родителей?
Ужас, непередаваемый ужас для ребёнка: мать и отец – оборотни. Враги. Самые родные, любимые, те, кто призван беречь и защищать. Йенс представил себе и поёжился. А что бы он сам почувствовал, явись ему Джессика в виде какого-нибудь монстра? Даже человеческая психика скрывает порой нечеловеческие глубины. Что уж говорить о пещерных тварях?
Вечером Элькем и Йенс прогуливались по центру города. В ядовито-жёлтом свете заката Андсдорф выглядел обыкновенным провинциальным городком, грустным и немного сказочным. Разве что непривычно безлюдным. Дул мокрый ветер и гнал по мостовой палую листву. Многие окна были закрыты ставнями, что придавало домам вид нежилой и диковатый. Йенс заметил, что на улицах почти не видно машин.
– Мы привыкли ходить пешком, – сказал Поль Элькем, словно угадав его мысли. – Этот запрет на ночное вождение так неудобен. Если темнота застанет за рулем – приходится бросать автомобиль, где попало. Да и расстояния здесь небольшие.
Он шёл медленно, тяжело ступая, и только глухой стук каблуков по асфальту да стон ветра в причудливо изломанных карнизах нарушали тишину. Йенс, напротив, старался двигаться бесшумно, словно боялся разбудить нечто, дремлющее в недрах земли.
– Это Банхофштрассе, пешеходная зона, – объяснил Элькем, сворачивая на широкую, крытую брусчаткой улицу. Здесь было немногим оживленнее, разве что изредка навстречу попадались прохожие, да и те опасливо жались к стенам. Блестели пустые витрины. Кое-где в полумраке магазинчиков притаились стыдливо закутанные в ткань манекены. Они стояли поодиночке и группами, в разных позах, и Йенс поначалу принял их за людей в какой-то спецодежде.
– Напоминает Венецию, – подумал он вслух.
– Это ещё почему? – изумился Элькем.
– Красотой мёртвого пейзажа. Здания по берегам улиц-каналов почти все непригодны для жилья. Сырость там страшная. Покинутые дома, гнилые изнутри, а между ними – потрясающей голубизны море. И буйство цветов. Длинные гондолы. Туристы с праздничными улыбками.
Элькем хмыкнул.
– Гондол и туристов у нас нет, а в остальном – очень похоже. Особенно, если учесть, что Венеция постепенно уходит под воду... Смотрите, Хоффман, «Остерглоке», наш «ночной клуб».
– Да, мне Лемес рассказывал. Вот это?
Йенс удивлённо разглядывал махровые от пыли – приоткрытые – ставни, неширокие наличники, краска на которых давно облупилась, световую вывеску, такую же грязную, как и всё остальное, с наклонённой буквой «g» и большой «o», стилизованной под звёздчатый колокольчик нарцисса. Из-под надписи торчали обрывки проводов. Сквозь пыльные оконные стёкла виднелись серые занавески и кусочек прокуренного потолка. На двери висел амбарный замок.
– Вот это? – повторил Йенс, точно не веря своим глазам. – Этот старый сарай? Но здесь же закрыто!
– У доппельгангеров есть ключ. Они не любят, когда кто-то вторгается в их штаб-квартиру, наверное, потому и выбрали такое место. И всё равно люди пишут им записки и пытаются засунуть внутрь – сквозь замочную скважину – или оставляют на карнизе.
Действительно, у окна, под самой рамой, белели сиротливые бумажные шарики – настолько размокшие, что при всем желании никто уже не смог бы их развернуть и прочесть.
– К тому же, – добавил Элькем веско, – их эстетическое чувство сильно отличается от нашего.
– Я так понял, они не отвечают на письма? – спросил Йенс.
– Насколько я их знаю – вряд ли. Но только кто же их по-настоящему знает? – Элькем вздохнул и зачем-то задрал голову к небу, туда, где лёгкие, как яблоневый цвет, облака наливались холодным сумеречным серебром. – У нас ещё минут сорок. Здесь быстро темнеет.
Они снова неторопливо двинулись вниз по улице. Йенс считал запертые двери.
– Тут кто-нибудь вообще торгует?
– Да, пара лавочек. Вон там, на углу с Фридрих-штрассе – булочная, а рядом с ней – аптека «зелёного креста». Через три дома – кнайпа «Дирндл», не «их» кнайпа – наша. Между прочим, там подают неплохое пиво. Только что мы прошли кофейню «Шибо», а тот полукруглый дом – магазин электротоваров «Лихтенштайн».
– Это фамилия владельца, – полюбопытствовал Йенс, – или страна, откуда он родом?
– Понятия не имею, – признался Элькем. – У нас его все зовут просто Ханс, хотя на самом деле у него какое-то сложное восточное имя. Но он и в самом деле продаёт светильники из камней. Хотите заглянуть?
Перешагнув порог, они очутились в подобии каменного грота – холодного и сырого, точно выдолбленного в скале. В одном месте с потолка даже лилась вода, но, приглядевшись, Йенс понял, что это гибкие светодиодные ленты, подвешенные на металлическом крюке. На узких полках и прямо на полу стояли камни – шарообразные, пирамидальные, гладкие или неровные, как отколотый кусок горной породы. Некоторые были включены в розетку, другие, очевидно, питались от батареек или аккумуляторов. Большинство горели ярко, как апрельские звёзды – изумрудным или нежно-салатовым, и только в дальнем конце грота, в небольшой нише, ютились тускло-багровые соляные уродцы.
– На свет в нашем городе большой спрос, – улыбнулся Элькем, – почти как на хлеб или на мясо. Заметьте, Хоффман, как точно этот магазинчик отражает потребности человеческой души. Огромная территория покоя и безопасности, и крохотный уголок любопытства...
Йенс кивнул. Трудно не согласиться. Зелёные лампы, очевидно, должны были отпугивать доппельгангеров, тёмно-красные – приглашали к диалогу.
Из подсобки вышел, потирая руки, Ханс – тощий, похожий на турка старик в кожаных брюках и ветхой джинсовой куртке – и поинтересовался у Элькема здоровьем какой-то Марты.
– Ещё три дня – и можно снимать швы, – бодро откликнулся тот. – В понедельник выпишем. А это мой коллега, Йенс Хоффман. Он приехал из Мюнхена сегодня ночью.
– Я счастлив, господин Хоффман, – вежливо сказал Ханс, – предложить вам самый качественный в Андсдорфе товар. Отличные светильники на любой вкус. Ручная работа дизайнеров из Голландии, Австрии, Италии и Финляндии. Что желаете приобрести? Ночник, который станет вашим прикроватным солнцем? Изысканное бра или настольную лампу, чтобы уютно читать в её полезном для зрения...
Элькем нетерпеливо махнул рукой.
– Да-да, всё ясно. Хоффман, вам нужна лампа? Если нет, то пойдёмте, пока на улице не стемнело. Может, ещё успеем заглянуть в «Дирндл». Перехватим по сандвичу. Я, как и вы, Хоффман, холостяк и не люблю готовить дома.
Йенс купил зеленый ночник и две батарейки к нему. А пиво в кнайпе и в самом деле оказалось отменным.
Дома он ещё раз оглядел коробку и понял, что ни голландские, ни австрийские мастера не приложили руку к изготовлению светильника. Под названием никому не известной фирмы «L & H» мелкими буквами стояло: «Сделано в Китае». Йенс пожал плечами и водрузил нераспакованную лампу на тумбочку. Нет, он не удивился. Ему иногда – а последнее время всё чаще – представлялось, что весь этот бутафорский мир с его дешёвыми страстями – сделан в Китае. Разноцветные пластмассовые фигурки коллег и друзей. Одинаковые города, улицы, здания. Бесконечные ток-шоу и голливудские драмы по телевизору. Слова и чувства, будто сошедшие с конвейера. Только Джессика была другой. Джессика была из иного теста, единственной, уникальной, узнаваемой даже по звуку шагов. Когда такие люди уходят – их некем заменить и нечем заделать брешь в собственной жизни.
Квартира, которую Йенс в утренней спешке не успел осмотреть, оказалась довольно уютной. Скошенные деревянные потолки, стол, диван, пара плетёных стульев и кресло-качалка, шкаф с большим зеркалом и тумбочка. Кухонный уголок с плитой, раковиной и холодильником. У стены – телевизор и полка с книгами. На двери привычно белел листок с «хаусорднунгом» – типовой список предписаний и правил. Не шуметь после восьми вечера и по воскресеньям, не курить в коридорах – очевидно, там находились датчики противопожарной сигнализации, не выбрасывать мусор в неположенные места. В отдельном пункте рассказывалось, как правильно устроить затемнение.
Йенс вздохнул и, подойдя к окну, задвинул ставни – плотно, чтобы нигде не оставалось зазора, потом опустил скатанную в рулон шторку и под конец – задёрнул занавески. Проделав всё это, он включил свет. И штора, и занавески пахли сосновой стружкой, пылью и ещё чем-то затхлым, неприятным. Как будто в квартире долго-долго жила древняя старуха, и все предметы пропитались её запахом. Йенс наугад выбрал с полки несколько брошюрок – полистать, и устроился в кресле-качалке. Не хотелось разбирать вещи. Вообще ничего не хотелось. Раньше чемоданами занималась Джессика, потому что Йенс терпеть не мог рыться в одежде и белье. Теперь, когда её не стало, всё приходилось делать самому, и один вид приоткрытого пустого шкафа вызывал приступ болезненной тоски.
В первой книжице – совсем тоненькой, с неброской обложкой – речь шла о «земляном народце», который обитает в заброшенных штольнях и тяжко страдает от болезней и голода. «Их тела покрыты язвами и коростой, а конечности искривлены, – писал автор, – и лёгкие забиты угольной пылью – так, что каждый вдох причиняет несчастным боль. В некоторых штольнях так тесно, что людям приходится стоять на плечах друг у друга...».
Йенса передёрнуло от жалости и отвращения.
«Нет, едва ли это про доппельгангеров, – подумал он. – Мало ли, что за народец. Сколько в океане рыб и всяких прочих тварей. А ведь земля глубже океана...»
Сама мысль о том, что пусть и не Джессика, но та, что похожа на неё, задыхается в тесноте, мучаясь от голода и язв, показалась ему невыносимой.
«А может, это просто такое поэтическое сочинение о трудной доле шахтёров?»
Йенс отложил брошюрку и взял другую. Посмотрел и хотел уже сунуть обратно на полку, потому что это была сказка, а сказки он не любил. Однако что-то притянуло его внимание, заставило вчитаться в наивный, нарочито детский текст.
Книжка называлась «Узнать в темноте» и рассказывала историю восьмилетней девочки-аутсайдера, которая подружилась с собственным двойником. Двойник этот – хоть и ни разу не названный в сказке доппельгангером – боялся солнечного света и с героиней встречался в некоей «сумеречной зоне». Что это такое и где находится – Йенсу оставалось только гадать. Почему-то для того, чтобы видеть в сумерках, девчонки все время пели. «И серость отступала, и возгорались краски...».
Выдумка? Красивая аллегория? А как приятно помечтать. Что есть на свете такая «сумеречная зона», где они с Джессикой могут быть вместе, как прежде – в безвозвратно минувшем. Сказка или не сказка, но пусть она окажется правдой.
«Пожалуйста, тот-в-кого-верим-мы-все-и-даже-атеисты, если ты есть и слышишь меня, пусть она окажется правдой!»
«Кто это сочинил, когда?» – спросил себя Йенс и, открыв титульный лист, принялся изучать выходные данные книги. Год издания – 1986-й? Ого! Как удивительна порой авторская фантазия! В 1986-м о доппельгангерах ещё никто ничего не знал. Первые заметки о них появились в интернете в 2001-м году. Мистические столкновения с самими собой на ночных пустырях, под мостами, на тёмных чердаках и в подвалах. Загадочные «чёрные люди», бегущие от луча карманного фонарика. Этим историям верили не больше, чем постам о йети. Столько мусора болтается в сети, что любая правда – даже самая кричащая – тонет в нём, как в болоте. Однако через пару лет баварское телевидение показало передачу о двойниках. Йенс помнил её смутно: коротенький репортаж из Андсдорфа, интервью с доктором Элькемом, который уже тогда заведовал больницей, какие-то анекдоты и слухи... Статейка в «Бильде» на целый разворот с кучей жареных фактов и нелепых домыслов. Именно в ней впервые прозвучало слово «эксперимент». Потом что-то такое прошло по каналу ARTE – радио и телевидения Люксембурга. И всё – как отрезало. Никаких упоминаний о «ночных соседях» – ни в газетах, ни в сети, ни на экране. Доппельгангеры вмиг сделались незаметны для блоггеров и СМИ, как самолёты-невидимки для вражеских локаторов.
Это было странно, очень странно – и даже походило на массовый гипноз – но Йенса в тот момент не интересовали ни двойники, ни Андсдорф. Джессика умирала...
В последние дни она сделалась сама на себя не похожа – отёкшая, жёлтая, словно постаревшая лет на двадцать. Йенс едва узнавал измученную, лежащую на кровати женщину, не понимал, кто она ему. Иногда он с завистью размышлял о добиблейских временах, когда люди не знали своего срока, а просто чихали – и с судорожным выдохом из тела уходила душа. Кому и зачем нужны долгая слабость, мучительное парение между небом и землёй, прощание – изо дня в день? Кому нужна боль, которая очищает душу, сдирая с неё одну одёжку за другой? Никому от них не легче – ни тому, кто уходит, ни тому, кто остаётся. Йенс устал и молил Бога, чтобы всё поскорее закончилось. Думал, ему станет легче. Не стало...
Не отпускала Джессика. Снилась каждую ночь и – хоть не упрекала – но одним своим присутствием вынуждала оправдываться, вспоминать, ворошить дни, как опавшие листья. Йенс чувствовал себя карусельной лошадкой, которую жёсткий шест, вцепившись в загривок, принуждает идти по кругу – и перелистывал, бесконечно перелистывал страницы назад... Вспоминал, как за два года до смерти его жена совершила символическое самоубийство: в пылу ссоры порвала свои детские фотографии, все до единой. Она была аккуратной, Джессика, не швырялась вещами, не била посуды – но даже после незначительной размолвки с Йенсом черты её заострялись. Она впадала в такую тоску, что начинала крушить себя изнутри. А там, внутри – душа настолько хрупкая, что раз повернёшься в гневе, и все, остались одни черепки.
Если убить прошлое – настоящее обречено. Дерево сохнет без корней. Потом Йенс долго склеивал снимки – собирая их, как мозаику, по кускам и не понимая, за что пострадала грустная большеглазая девочка. Грубый бумажный шов пересёк её лоб, вырвал из рук мишку... Разве её вина, что двое взрослых людей не поняли друг друга?
Он и не заметил, как потускнел свет в комнате. Из углов наползал плотный коричневый туман. Книжка исчезла с коленей, а вместо неё появилась старая, кое-как склеенная фотография. «Да я, похоже, задремал», – догадался Йенс. Он знал, что если сейчас поднимет взгляд, то увидит Джессику.
«Зря не лёг на диван. Не годится спать в кресле, утром разболится спина», – сказал то ли себе, то ли ей.
«А у меня как болела», – возразила Джессика и мягко отделилась от занавески.
«Я не вижу тебя, – пробормотал Йенс. Мутный силуэт колыхался на сквозняке, словно дым от костра. Откуда сквозняк – ведь окно закрыто? – Где мы, кузнечик, милый? – забытое слово, как пилой по сердцу. – Это сумеречная зона, да?»
«Да», – ответила она. Не сказала, а пропела сладкоголосо, и от звука её дрожащего сопрано вдруг просияли цвета, такие яркие, будто не свет хлынул в комнату, а какой-то химический раствор, который смывает всё лишнее с предметов и выявляет их красочную суть.
«...Есть краски мягкие, глухие, от которых глазам тепло, но не больно. Такими сияет земля и горят камни, остывая от дневного жара. Светятся корни и гнилушки. Мох и стебли растений. А есть – жгучие, как кислота, прекрасные до обморока, до остановки дыхания. Это краски неба. Смотреть на него можно туманными ночами, когда нет звёзд и луну застилают облака. Но даже тогда не выдержать более трёх минут – зелёного, голубого, розового. Зато потом, отведя взгляд, несколько минут видишь настоящую темноту. «Человеческая тьма», как я её называю. Не подлинное отсутствие света – ибо такое невозможно – а темнота обожжённых зрачков. Вселенная лучезарна – но знает об этом лишь тот, у кого глаза прозрачны, а не затянуты бельмами».
Торика свернулась калачиком в чём-то громоздком и зачехлённом, похожем на зубоврачебное кресло. Сидела поверх чехла и писала в блокноте чернильным карандашным огрызком. Карандашный грифель толще пера, и буквы выходили не острыми, убористыми, а гладкими и сытыми, как пауки. Вдобавок его приходилось все время слюнявить, отчего язык и губы у Торики стали горькими. Она писала быстро и сбивчиво, но не потому, что её торопил рассвет. За тонкой стенкой плакал человеческий ребёнок. Звук утомлял, сбивал с мысли. Торика ошибалась и вымарывала целые куски. Она не вычёркивала неправильное, как обыкновенно поступают люди, а ставила в скобки.
«Так мы угасаем приятно и медленно, растворяемся в родниковой воде, в траве и глине. Смерть человека – нередко болезненна, точно крик филина, оглушает и причиняет страдания, и след от неё стелется по ветру, как тина и грязь по течению реки.
Когда Джессика заболела, я сразу почувствовала – это конец. Еще раньше, чем Йенс, раньше, чем она сама. Что-то случилось с её волосами – они потускнели, выцвели, словно из них ушла сила, и мне всё время хотелось сдуть с них пыль, чтобы они снова заблестели. Наверное, часть души покидает людей ещё до смерти – догадалась я – и это необратимо. А ещё – её легко вспугнуть. Люди глупы и неуклюжи, а души у них пугливы, как птицы или бабочки. Прилетают нечаянно, по первому зову, а порой и вовсе – незванные. Улетают, стоит лишь хлопнуть в ладоши. Поэтому живут люди недолго».
Торика задумчиво лизнула грифель и заключила в скобки последнюю фразу.
«Поэтому они живут от хлопка до хлопка. А мы – от начала до конца....
Неизвестно, что лучше».
Скобки.
«Шестое октября. Андсдорф, больница Санкт-Йосеф».
продолжение следует..
Источник: стихи.ру
Автор: Джон Маверик
Топ из этой категории
 Салон красоты у плиты
Салон красоты у плиты
Вам предстоит простоять у плиты, домашние заждались. Такая перспектива радует далеко не всех женщин. Но существуют...