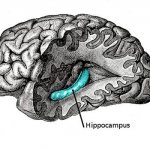Найти чёрную кошку в тёмной комнате 4
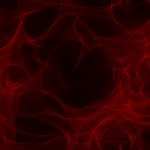
Книги / Необычное
Глава 4
– … не реальные факты, а домыслы и слухи, за которые лично мне стыдно, – обыкновенно мягкий, чуть холодноватый голос Элькема звучал резко, сдобренный сердитой хрипотцой. С кем это он говорит? Йенс замер у двери, готовый войти, но удивился тону главврача и замешкался. – Разве кто-нибудь не знает, как происходит деление? Вы знаете и я знаю – этого достаточно. Они не воруют душу, а берут её – только родившуюся, мокрую, как птенец – и расщепляют надвое. Смотрите, Франц, если дождевого червя разрезать посередине, у одной половины отрастет голова, а у другой – хвост. Но разве первая лучше второй?
– Дело не в том, кто лучше, а кто хуже, – возразил его невидимый собеседник, в котором Йенс тотчас узнал – да и как было не узнать его сочный басок – хирурга Франца Питерсона, – а в том, где мы и надо ли нам туда. А договор не должен ущемлять ни одну из сторон...
«Куда ни ступи – а всё равно вляпаешься в какую-нибудь тайну. Тошнит уже от загадок», – поморщился Йенс. Его мутило со вчерашнего вечера. Манок не стихал в голове, словно поселился там навсегда, как пичуга в дуплистом дереве.
– Заходите, Хоффман, не топчитесь на пороге, – гостеприимно пробасил пожилой хирург, и Йенс шагнул в ординаторскую. – Ладно, Поль, будем считать, что Вы меня убедили – но до первой жалобы. Мне надоело за всех отдуваться, – Питерсон встал и, стряхнув с вешалки плащ, направился к двери, на ходу просовывая руки в рукава, застегиваясь, обматывая вокруг шеи длинный полосатый шарф с кистями. – До завтра, господа. Всем приятного вечера.
Йенс потянул носом: в ординаторской слабо пахло спиртом, но не медицинским, с ягодной ноткой. Не может быть, чтобы главврач с хирургом пили шнапс. Да нет, померещилось. Слуховые галлюцинации уже донимают, плюс теперь ещё обонятельные – и здравствуй, шизофрения.
– Хоффман, кофе? Или чего-нибудь покрепче? – предложил Элькем и, выдвинув ящик стола, достал оттуда бутылочку в двести пятьдесят грамм, наполовину пустую. – По глоточку?
– Ну, что ж, – задумчиво протянул Йенс, и Элькем плеснул немного шнапса на дно кофейной чашки. – Спасибо, это то, что нужно, – отхлебнул, немного подержал во рту, смакуя вкус и аромат. Сглотнул – и нервное напряжение слегка отпустило. Мир не изменился, но чуть-чуть потеплел, а заоконный свет – еще минуту назад пронзительно белый, острый – растёкся яичным желтком... – Да, я собственно, хотел...
Он кратко пересказал вчерашний разговор с Лемесом. Упомянул и красную темноту за металлической дверью, и фрау Вернике со свёртком. Неловко получилось, едва не оклеветал человека – но кто бы на его месте не ошибся?
– Двери, будь они неладны, вечно закрытые двери... Цельно-гладкие, ни замков, ни ручек. Такое ощущение, что открываются они только с другой стороны, с тёмной половины. Вдобавок, тайный ход – из родильного отделения – защищён цифровым замком.
Элькем кивнул.
– Правильно. В крыло доппельгангеров можно попасть только с первого этажа. И не кому попало, а тем, кого они согласны впустить. Таково было их условие, Хоффман.
– Вот как, – не выдержал Йенс. – Что это за эксперимент такой, если они к нам ходят, когда захотят, отключают электричество и пугают пациентов, приказывают и наблюдают – а мы, как лабораторные крысы за зеркальным стеклом, только и делаем, что давим на рычажки? Даже не представляю себе, что такое деление, но нам-то оно зачем? Людям?
Бутылочка из-под шнапса полетела в мусорную корзину – и тотчас её место заняла другая, виртуозно извлечённая откуда-то из недр шкафа с медикаментами.
– Вы только не опьянейте, пожалуйста, Йенс, – устало улыбнулся Элькем. Вид у него был измученный. Пергаментная кожа в старческих пятнах. Круги под глазами. – Ни черта вы не поняли, Хоффман. Это не наш эксперимент, это их эксперимент. Пойдёмте.
Йенс нетвёрдо поднялся на ноги. Музыка в голове смолкла, и воцарилось приятное безмыслие. Вслед за Элькемом он спустился на первый этаж. Скучно плакал младенец, будто кто-то тянул за хвост кота. В коридоре было пусто.
– Деление – естественный процесс, – объяснял между тем Элькем, – как ни дико звучит. Составная часть природного круговорота. Самки... эм... женщины доппельгангеров не способны к зачатию и вынашиванию детей. Их детёныши рождаются вместе с человеческими – но появляются на свет не до конца сформированными... иногда это недоразвитые близнецы, а бывает, что просто какие-то ошмётки, мы называем их биоматериалом.
«Он пьян, – подумал Йенс, – или сошёл с ума. Этакий изысканный абсурд: женщины рожают детей-невидимок, о которых не знает никто, кроме фрау Вернике и доктора Элькема. Ну, хорошо, пусть в Андсдорфе, а в других местах? Там, где и слыхом не слыхали ни о каком эксперименте?
– Так вот, биоматериал мы и передаём доппельгангерам, а они помещают его в инкубатор. Это не сделка, Йенс. Это – принадлежит им. Вы, наверное, в курсе, Хоффман, что в любой клинике есть подземные этажи...
Йенс кивнул. Да, правда, в больнице, где он раньше работал, таких было целых три – настоящее подземное царство. Там хранилась списанная аппаратура, койки, сантехника и один Бог ведает, что ещё. На самом деле, Йенс, как и большинство его коллег, понятия не имел, что творилось на резервных этажах. Ему хватало дел наверху. Но кто-то, вероятно, знал и наведывался туда отнюдь не ради больничного хлама. В каждой клинике есть своя фрау Вернике, – понял он.
– … и километры тёмных коридоров.
И всё-таки что-то не давало Йенсу покоя. «Они появляются на свет...» На свет? Он никогда не слышал, чтобы роды проходили при полном затемнении, а уж про кесарево и говорить нечего. Хирурги не оперируют в темноте.
– Биоматериал не боится солнечных лучей, – рассеял его сомнения Элькем, – равно как искусственного освещения. Светонепереносимость развивается у них позже. Видимо, какие-то процессы в инкубаторе тому причиной... А впрочем, мы пришли. Есть вещи, о которых бесполезно говорить – с ними надо встретиться лицом к лицу.
Его пальцы торопливо пробежались по клавиатуре замка. Снова Йенса окатили хвойно-лиственная сырость и звериный дух, которые вкупе с инфернальной подсветкой вызывали гадливость и тошноту, почти непреодолимую. Или это рассказ Элькема так на него подействовал?
«Лесенка в ад», – пробормотал Йенс.
– Тут узко, проходите вперёд, Хоффман. Я – за вами. Надеюсь, у вас нет с собой карманного фонарика? Здесь любой источник света приравнивается к оружию. А в настоящий ад лесенки не ведут... Ад – это пропасть, обрыв. В него не сходят чинно, по ступенькам, а летят – кубарем на дно. Навсегда. Вот так-то.
Йенс перекрестился мысленно – хоть и считал себя атеистом, но бывают случаи, когда атеизм делается тесен, жмёт, и приходится сдирать его, как маску – и шагнул в дверной проём. Жалобно хрустнул пол. Как будто не камень под ногой, а подгнившее дерево. Все чувства притупились: красный туман запечатал глаза, от вони заложило нос, язык точно облеплен ватой. Пропало ощущение верха и низа. Исказились время и пространство. Йенс не понимал, долго ли он идёт, поднимается с первого этажа клиники Санкт-Йосеф на второй или спускается в преисподнюю, и куда запропастился Элькем. Вроде и лестница неширокая, так что одному еле-еле протиснуться, а сколько ни разводи руки – стен не достать. Исчезли. Как новорождённый котёнок, слепой и беспомощный, тычется носом куда попало, так Йенс крутил головой, пытаясь отыскать в темноте хоть какой-то ориентир.
Вокруг – шорохи, скрип, шаги. Кто-то поддержал его за локоть и тихо рассмеялся.
– Сюда, Хоффман, – не Элькема голос, чужой. – Не бойтесь, не укусим.

Мрак всколыхнулся, слегка побледнел и оформился в худой высокий силуэт, над головой которого покачивалась багровая корона. «Похоже на инфракрасную съёмку, – подумал Йенс. – Господи, жара-то какая! Будто в кузнице. Не хватало только хлопнуться здесь в обморок».
В крыле доппельгангеров и в самом деле было жарко и душно. Окна задраены, как иллюминаторы в подводной лодке – двойники пережидали день. Не только свет – воздух не проходил сквозь щели.
– Желаете увидеть инкубатор, – произнёс худой силуэт.
Йенс энергично закивал. Он сам себе казался маленьким и глупым, как в четыре года, когда отец, ухватив его за шкирку, заталкивал в гараж, встяхивал, точно щенка, и точно таким – осуждающим – тоном спрашивал: «Хочешь увидеть трактор?»
На что тебе трактор, дурачок? Ведь ты пришёл не за этим.
– Не смотрите долго, – предупредил доппельгангер. – Излучение инкубатора опасно: вызывает ожоги роговицы и сетчатки.
Ну и взгляды у них – словно крючками цепляются за внутренности и выворачивают всего тебя наизнанку... Неприятно и больно. Как будто оперируют без наркоза. Вот только цель операции – не ясна. «Может, и не со зла это, – успокаивал себя Йенс. – Может, и не хотят они ничего плохого».
Он решился. Вытащил из-за пазухи портмоне, раскрыл – там, на развороте должна быть фотография. В темноте не разобрать – тусклое пятно, но двойник-то видит.
– Я ищу жену, Джессику... Она умерла два года назад.
Силуэт качнулся в сторону, взмахнул перед лицом Йенса рукой в смутно-красном рукаве.
– Ваша жена умерла, но вы её ищете?
– Она должна быть среди вас, – Йенс протягивал доппельгангеру портмоне, как нищий на паперти протягивает ладонь, – вернее, не она, а её дубль. Джессика теневая... Джессика-из-сумеречной-зоны... – при этих словах двойник отшатнулся, но Йенс ухватил его за рукав, продолжая умолять. – Мне всё равно, какая, лишь бы она... Лишь бы Джессика. Скажите, как её отыскать? Мне надо – очень надо – поговорить с ней.
– Смотрите на инкубатор и уходите, – отрезал доппельгангер.
Глухой пинок, скрип дверных петель... какое же у них тут всё старое и ржавое... Не верится, что такое возможно в современной больнице. Лёгкое движение воздуха – и вдруг из мрака воссиял гигантский аквариум, полный тусклой красноты, пронизанной пунцовыми бликами, всплесками и шевелением.
Исходящий от аквариума свет не столько рассеивал темноту, сколько раздирал ее в клочья. Йенс увидел нагромождение стульев в углу, обмотанную тряпкой капельницу, какая-то громоздкая зачехлённая аппаратура у стены и – совсем близко – острое, похожее на волчью морду, лицо доппельгангера в чёрных очках.
– Послушайте, ведь я спросил...
Ему почудилось, что собеседник улыбается... впрочем, видно было плохо... Но когда доппельгангер ответил, в его голосе не чувствовалось насмешки.
– Эту девушку зовут Торика, – сказал он, и Йенс понял свою ошибку. С чего он взял, что у доппельгангеров человеческие имена? – Если бы она хотела, чтобы её нашли – вы бы её нашли. У вас три минуты, Хоффман. Если не собираетесь всю оставшуюся жизнь ходить с колокольчиком.
Он явно не собирался оставлять человека одного в «святая святых». Но Йенс не отозвался – его взгляд был прикован к инкубатору. Среди багрового мерцания слабо шевелились разъятые потроха. Кишки, оборванные мышцы, комок в форме сердца... Живое сердце – пульсирует... и тут же – почти целый младенец с недоразвитыми конечностями и почему-то с зачатками крыльев. Странно, ведь под землёй крылья не нужны, так что, вероятно, это рудимент, как жабры у человеческого эмбриона. Больше всего Йенса поразила грязь – рядом с тем, что должно быть стерильно. Там и здесь валялись бурые листья, еловые шишки, комки глины, и даже нечто, напоминавшее лосиный помёт.
Йенс едва подавил рвотный позыв. До чего он болезненный, этот красный цвет. Не только глаза выжигает, но и нервы, сосуды, мозг. По щекам потекли слёзы – как раньше, воскресными вечерами, когда Джессика резала на кухне лук. Она нарезала его аккуратно, тонкими кружочками, прозрачными, как лепестки, и укладывала – в форме цветка – в горячее масло на сковороду. Йенс любил яичницу с луком, но сырой луковый сок заставлял его рыдать в четыре ручья.
И как она сама выдерживала? Хоть бы слезинку уронила.
– Ну, хватит, – прошипел у него над ухом остролицый.
Дверь закрылась. Погасло свечение инкубатора, будто подули на свечу, и темнота позеленела. В ней вспыхивали изумрудные молнии, травяными стеблями извивались кишки и ползали зелёные младенцы, а Йенс плёлся сквозь неё, держась за глаза и чуть не теряя сознание от боли. Доппельгангер подталкивал его в спину.
А потом за окнами догорал закат, и пол ординаторской ходил ходуном, и стены пьяно шатались. Йенс лежал на кушетке, а Элькем суетился возле него с нашатырным спиртом и холодными компрессами.
– Ничего, ничего, пройдёт. Это всего лишь свет. У всех такое бывает. Я тоже в первый раз боялся, что ослепну, но на самом деле, всё не так страшно, как кажется.
– Страшно, – пробормотал Йенс.
После духоты «тёмного» крыла его знобило, и дышалось трудно, словно в лёгких осела пыль. В груди ныло... вроде ничего ужасного не произошло, но его не покидало тоскливое ощущение потери. Если бы не тот, остромордый, его встретил, а... Торика – да, так её зовут – какими удивительными красками расцвёл бы чужой мир!
Джессика мертва, её тело стало пеплом и упокоилось в земле. Дерево добралось до него корнями, выпило, обратило в листву... и та листва уже давно облетела. Мёртвые не воскресают. Но Торика, вылепленная в инкубаторе из органических отбросов, глины и лесного мусора, она – живая.
– Подождите, Хоффман, пока стемнеет, – наставлял Элькем, – надо пару дней избегать солнца. Даю вам отпуск до следующего вторника, посидите дома, обдумайте увиденное... Отдохните. Или написать до среды?
– Да, – выдавил Йенс.
Теперь он, по крайней мере, знает её имя. Это даёт некую власть... или иллюзию власти над человеком, надежду, что можно встать посреди ночной улицы и прокричать – и тебе откликнутся. Или написать письмо и оставить на карнизе «Остерглоке», где оно превратится в крохотный мокрый шарик, такой же, как десятки других. Умеют ли доппельгангеры читать?
Солнце зашло, и сумерки окутали город, как морская соль обволакивает остов затонувшего корабля. Выйдя из больницы, Йенс понял, что с его обожжёнными глазами что-то не так. Тьмы как ни бывало, а вместо неё по улицам расплескалось холодное молоко. Сначала он подумал, что выпал снег. Необычный для середины октября каприз природы, но случается и такое. Однако, нет – серебряно блестел ровный асфальт, голые стены и чистая мостовая гладко белели, на ветвях лип и тополей одинокие листья горели, как фонарики, вот только светлее от них не делалось.
Не то чтобы в белом мраке было легче видеть. Скорее, наоборот. Белизна – коварнее черноты – искажала контуры, растворяла цвета и топила мир в сплошной вязкой мути. Йенс брёл наугал, оскальзываясь в лужах, и звал Торику.
То-ри-ка... Как до-ре-ми... Три ноты, без которых не сложится ни одна мелодия. Он чертыхался, натыкаясь на фонарные столбы-невидимки, и вытягивал шею, пытаясь ослабшим зрением выхватить из тумана знакомый тонконогий силуэт. Йенс узнал бы её из миллиона – в любой одежде, в толпе, в темноте, и даже в этой манной каше – но улицы оставались пусты. Он и не заметил, как свернул на Банхофштрассе, просто едва уловимо изменился звук шагов – по брусчатке каблуки стучали глуше – и стало просторнее.
Под смутно-желтоватой вывеской стояла группа людей – или доппельгангеров? – в чём-то, напоминавшем древнеримские тоги. Йенс рванулся к ним, и чуть не расквасил нос о стекло. «Привет, парни! – сказал он манекенам. – Тут девушка не пробегала? Волосы, жаркие, как солнце, талия – в руку толщиной. Да, это жена моя. Эх, вы, дурачьё...». Теперь он без труда сориентировался. «Н & M», магазин молодёжной моды, соседнее здание – бывшая колбасная, а за ним – «Остерглоке».
Амбарный замок исчез. Из-под двери сочились голоса, шёпот и негромкая, отрывистая музыка.
– Торика! – снова позвал Йенс. – Ты здесь? Торика, пожалуйста...
Он подтянулся на карнизе, нечаянно уронив на землю с десяток «писем», подёргал крепко запертые ставни, но стальной шпингалет не сдвинулся ни на миллиметр.
– Пожалуйста... ты должна быть здесь...
Йенс распахнул дверь и ворвался в кафе. Там шарахнулись по углам тени, но Йенс, как ни вглядывался, ни в одной из них не признал свою любимую.
Тогда он вернулся на крыльцо и, присев на ступеньку, тихо заговорил. Он просил у Торики прощения – за свою тугоухость и неуклюжесть, за то, что любил вполсердца и переломал всё, что было хрупко. Слова, которые Джессике некогда приходилось вымаливать, теперь сами шли на язык. Жаль, что адресат их не слышал. А если и слышал, то не выдал себя. Слова пролились впустую и не принесли облегчения.
«Я видела, как он мечется, охваченный болью, и мысли его тянутся ко мне сквозь пустое пространство – яркие, будто разноцветные нити. Красные ниточки надежды, чёрные – обиды, и хрупкие золотые паутинки... любви? Глупости, бессмыслица, не может человек любить доппельгангера.
Я стояла у окна, завернувшись в занавеску, и Йенс прошёл совсем близко, повторяя моё имя. На меня дохнуло его отчаянием, но он не заметил меня».
Торика дернула плечом, и капля чернил, сорвавшись с конца пера, расползлась кляксой во всю строку. «Любовь» посинела, распухла, выпустила кривые лапки, точно уродливый паук. Оборвались паутинки надежды.
«В какой-то момент мне стало его жаль, настолько, что захотелось подойти, взять за руку и проводить домой, как заплутавшего в чужом городе ребенка. Но я сдержалась. У меня нет права вмешиваться в его жизнь. Ему не нужна такая, как я. Ему нужен человек, способный сострадать и заботиться. Люди умеют это гораздо лучше нас.
Он спешит, потому что скоро зима, но наши границы охраняет страх. В подземном Анде не бывает ни зимы, ни лета. Но это не значит, что я не чувствую смены времён года. Когда наверху осень – река темнеет, а в душе делается уныло и холодно. И облетают – пусть не листья, но бесполезные мысли и мечты, всё не написанное, не высказанное, не додуманное до конца. Я отпускаю жалость по течению реки...
Девятнадцатое октября. Андсдорф, Остерглоке».
продолжение следует...
– … не реальные факты, а домыслы и слухи, за которые лично мне стыдно, – обыкновенно мягкий, чуть холодноватый голос Элькема звучал резко, сдобренный сердитой хрипотцой. С кем это он говорит? Йенс замер у двери, готовый войти, но удивился тону главврача и замешкался. – Разве кто-нибудь не знает, как происходит деление? Вы знаете и я знаю – этого достаточно. Они не воруют душу, а берут её – только родившуюся, мокрую, как птенец – и расщепляют надвое. Смотрите, Франц, если дождевого червя разрезать посередине, у одной половины отрастет голова, а у другой – хвост. Но разве первая лучше второй?
– Дело не в том, кто лучше, а кто хуже, – возразил его невидимый собеседник, в котором Йенс тотчас узнал – да и как было не узнать его сочный басок – хирурга Франца Питерсона, – а в том, где мы и надо ли нам туда. А договор не должен ущемлять ни одну из сторон...
«Куда ни ступи – а всё равно вляпаешься в какую-нибудь тайну. Тошнит уже от загадок», – поморщился Йенс. Его мутило со вчерашнего вечера. Манок не стихал в голове, словно поселился там навсегда, как пичуга в дуплистом дереве.
– Заходите, Хоффман, не топчитесь на пороге, – гостеприимно пробасил пожилой хирург, и Йенс шагнул в ординаторскую. – Ладно, Поль, будем считать, что Вы меня убедили – но до первой жалобы. Мне надоело за всех отдуваться, – Питерсон встал и, стряхнув с вешалки плащ, направился к двери, на ходу просовывая руки в рукава, застегиваясь, обматывая вокруг шеи длинный полосатый шарф с кистями. – До завтра, господа. Всем приятного вечера.
Йенс потянул носом: в ординаторской слабо пахло спиртом, но не медицинским, с ягодной ноткой. Не может быть, чтобы главврач с хирургом пили шнапс. Да нет, померещилось. Слуховые галлюцинации уже донимают, плюс теперь ещё обонятельные – и здравствуй, шизофрения.
– Хоффман, кофе? Или чего-нибудь покрепче? – предложил Элькем и, выдвинув ящик стола, достал оттуда бутылочку в двести пятьдесят грамм, наполовину пустую. – По глоточку?
– Ну, что ж, – задумчиво протянул Йенс, и Элькем плеснул немного шнапса на дно кофейной чашки. – Спасибо, это то, что нужно, – отхлебнул, немного подержал во рту, смакуя вкус и аромат. Сглотнул – и нервное напряжение слегка отпустило. Мир не изменился, но чуть-чуть потеплел, а заоконный свет – еще минуту назад пронзительно белый, острый – растёкся яичным желтком... – Да, я собственно, хотел...
Он кратко пересказал вчерашний разговор с Лемесом. Упомянул и красную темноту за металлической дверью, и фрау Вернике со свёртком. Неловко получилось, едва не оклеветал человека – но кто бы на его месте не ошибся?
– Двери, будь они неладны, вечно закрытые двери... Цельно-гладкие, ни замков, ни ручек. Такое ощущение, что открываются они только с другой стороны, с тёмной половины. Вдобавок, тайный ход – из родильного отделения – защищён цифровым замком.
Элькем кивнул.
– Правильно. В крыло доппельгангеров можно попасть только с первого этажа. И не кому попало, а тем, кого они согласны впустить. Таково было их условие, Хоффман.
– Вот как, – не выдержал Йенс. – Что это за эксперимент такой, если они к нам ходят, когда захотят, отключают электричество и пугают пациентов, приказывают и наблюдают – а мы, как лабораторные крысы за зеркальным стеклом, только и делаем, что давим на рычажки? Даже не представляю себе, что такое деление, но нам-то оно зачем? Людям?
Бутылочка из-под шнапса полетела в мусорную корзину – и тотчас её место заняла другая, виртуозно извлечённая откуда-то из недр шкафа с медикаментами.
– Вы только не опьянейте, пожалуйста, Йенс, – устало улыбнулся Элькем. Вид у него был измученный. Пергаментная кожа в старческих пятнах. Круги под глазами. – Ни черта вы не поняли, Хоффман. Это не наш эксперимент, это их эксперимент. Пойдёмте.
Йенс нетвёрдо поднялся на ноги. Музыка в голове смолкла, и воцарилось приятное безмыслие. Вслед за Элькемом он спустился на первый этаж. Скучно плакал младенец, будто кто-то тянул за хвост кота. В коридоре было пусто.
– Деление – естественный процесс, – объяснял между тем Элькем, – как ни дико звучит. Составная часть природного круговорота. Самки... эм... женщины доппельгангеров не способны к зачатию и вынашиванию детей. Их детёныши рождаются вместе с человеческими – но появляются на свет не до конца сформированными... иногда это недоразвитые близнецы, а бывает, что просто какие-то ошмётки, мы называем их биоматериалом.
«Он пьян, – подумал Йенс, – или сошёл с ума. Этакий изысканный абсурд: женщины рожают детей-невидимок, о которых не знает никто, кроме фрау Вернике и доктора Элькема. Ну, хорошо, пусть в Андсдорфе, а в других местах? Там, где и слыхом не слыхали ни о каком эксперименте?
– Так вот, биоматериал мы и передаём доппельгангерам, а они помещают его в инкубатор. Это не сделка, Йенс. Это – принадлежит им. Вы, наверное, в курсе, Хоффман, что в любой клинике есть подземные этажи...
Йенс кивнул. Да, правда, в больнице, где он раньше работал, таких было целых три – настоящее подземное царство. Там хранилась списанная аппаратура, койки, сантехника и один Бог ведает, что ещё. На самом деле, Йенс, как и большинство его коллег, понятия не имел, что творилось на резервных этажах. Ему хватало дел наверху. Но кто-то, вероятно, знал и наведывался туда отнюдь не ради больничного хлама. В каждой клинике есть своя фрау Вернике, – понял он.
– … и километры тёмных коридоров.
И всё-таки что-то не давало Йенсу покоя. «Они появляются на свет...» На свет? Он никогда не слышал, чтобы роды проходили при полном затемнении, а уж про кесарево и говорить нечего. Хирурги не оперируют в темноте.
– Биоматериал не боится солнечных лучей, – рассеял его сомнения Элькем, – равно как искусственного освещения. Светонепереносимость развивается у них позже. Видимо, какие-то процессы в инкубаторе тому причиной... А впрочем, мы пришли. Есть вещи, о которых бесполезно говорить – с ними надо встретиться лицом к лицу.
Его пальцы торопливо пробежались по клавиатуре замка. Снова Йенса окатили хвойно-лиственная сырость и звериный дух, которые вкупе с инфернальной подсветкой вызывали гадливость и тошноту, почти непреодолимую. Или это рассказ Элькема так на него подействовал?
«Лесенка в ад», – пробормотал Йенс.
– Тут узко, проходите вперёд, Хоффман. Я – за вами. Надеюсь, у вас нет с собой карманного фонарика? Здесь любой источник света приравнивается к оружию. А в настоящий ад лесенки не ведут... Ад – это пропасть, обрыв. В него не сходят чинно, по ступенькам, а летят – кубарем на дно. Навсегда. Вот так-то.
Йенс перекрестился мысленно – хоть и считал себя атеистом, но бывают случаи, когда атеизм делается тесен, жмёт, и приходится сдирать его, как маску – и шагнул в дверной проём. Жалобно хрустнул пол. Как будто не камень под ногой, а подгнившее дерево. Все чувства притупились: красный туман запечатал глаза, от вони заложило нос, язык точно облеплен ватой. Пропало ощущение верха и низа. Исказились время и пространство. Йенс не понимал, долго ли он идёт, поднимается с первого этажа клиники Санкт-Йосеф на второй или спускается в преисподнюю, и куда запропастился Элькем. Вроде и лестница неширокая, так что одному еле-еле протиснуться, а сколько ни разводи руки – стен не достать. Исчезли. Как новорождённый котёнок, слепой и беспомощный, тычется носом куда попало, так Йенс крутил головой, пытаясь отыскать в темноте хоть какой-то ориентир.
Вокруг – шорохи, скрип, шаги. Кто-то поддержал его за локоть и тихо рассмеялся.
– Сюда, Хоффман, – не Элькема голос, чужой. – Не бойтесь, не укусим.

Мрак всколыхнулся, слегка побледнел и оформился в худой высокий силуэт, над головой которого покачивалась багровая корона. «Похоже на инфракрасную съёмку, – подумал Йенс. – Господи, жара-то какая! Будто в кузнице. Не хватало только хлопнуться здесь в обморок».
В крыле доппельгангеров и в самом деле было жарко и душно. Окна задраены, как иллюминаторы в подводной лодке – двойники пережидали день. Не только свет – воздух не проходил сквозь щели.
– Желаете увидеть инкубатор, – произнёс худой силуэт.
Йенс энергично закивал. Он сам себе казался маленьким и глупым, как в четыре года, когда отец, ухватив его за шкирку, заталкивал в гараж, встяхивал, точно щенка, и точно таким – осуждающим – тоном спрашивал: «Хочешь увидеть трактор?»
На что тебе трактор, дурачок? Ведь ты пришёл не за этим.
– Не смотрите долго, – предупредил доппельгангер. – Излучение инкубатора опасно: вызывает ожоги роговицы и сетчатки.
Ну и взгляды у них – словно крючками цепляются за внутренности и выворачивают всего тебя наизнанку... Неприятно и больно. Как будто оперируют без наркоза. Вот только цель операции – не ясна. «Может, и не со зла это, – успокаивал себя Йенс. – Может, и не хотят они ничего плохого».
Он решился. Вытащил из-за пазухи портмоне, раскрыл – там, на развороте должна быть фотография. В темноте не разобрать – тусклое пятно, но двойник-то видит.
– Я ищу жену, Джессику... Она умерла два года назад.
Силуэт качнулся в сторону, взмахнул перед лицом Йенса рукой в смутно-красном рукаве.
– Ваша жена умерла, но вы её ищете?
– Она должна быть среди вас, – Йенс протягивал доппельгангеру портмоне, как нищий на паперти протягивает ладонь, – вернее, не она, а её дубль. Джессика теневая... Джессика-из-сумеречной-зоны... – при этих словах двойник отшатнулся, но Йенс ухватил его за рукав, продолжая умолять. – Мне всё равно, какая, лишь бы она... Лишь бы Джессика. Скажите, как её отыскать? Мне надо – очень надо – поговорить с ней.
– Смотрите на инкубатор и уходите, – отрезал доппельгангер.
Глухой пинок, скрип дверных петель... какое же у них тут всё старое и ржавое... Не верится, что такое возможно в современной больнице. Лёгкое движение воздуха – и вдруг из мрака воссиял гигантский аквариум, полный тусклой красноты, пронизанной пунцовыми бликами, всплесками и шевелением.
Исходящий от аквариума свет не столько рассеивал темноту, сколько раздирал ее в клочья. Йенс увидел нагромождение стульев в углу, обмотанную тряпкой капельницу, какая-то громоздкая зачехлённая аппаратура у стены и – совсем близко – острое, похожее на волчью морду, лицо доппельгангера в чёрных очках.
– Послушайте, ведь я спросил...
Ему почудилось, что собеседник улыбается... впрочем, видно было плохо... Но когда доппельгангер ответил, в его голосе не чувствовалось насмешки.
– Эту девушку зовут Торика, – сказал он, и Йенс понял свою ошибку. С чего он взял, что у доппельгангеров человеческие имена? – Если бы она хотела, чтобы её нашли – вы бы её нашли. У вас три минуты, Хоффман. Если не собираетесь всю оставшуюся жизнь ходить с колокольчиком.
Он явно не собирался оставлять человека одного в «святая святых». Но Йенс не отозвался – его взгляд был прикован к инкубатору. Среди багрового мерцания слабо шевелились разъятые потроха. Кишки, оборванные мышцы, комок в форме сердца... Живое сердце – пульсирует... и тут же – почти целый младенец с недоразвитыми конечностями и почему-то с зачатками крыльев. Странно, ведь под землёй крылья не нужны, так что, вероятно, это рудимент, как жабры у человеческого эмбриона. Больше всего Йенса поразила грязь – рядом с тем, что должно быть стерильно. Там и здесь валялись бурые листья, еловые шишки, комки глины, и даже нечто, напоминавшее лосиный помёт.
Йенс едва подавил рвотный позыв. До чего он болезненный, этот красный цвет. Не только глаза выжигает, но и нервы, сосуды, мозг. По щекам потекли слёзы – как раньше, воскресными вечерами, когда Джессика резала на кухне лук. Она нарезала его аккуратно, тонкими кружочками, прозрачными, как лепестки, и укладывала – в форме цветка – в горячее масло на сковороду. Йенс любил яичницу с луком, но сырой луковый сок заставлял его рыдать в четыре ручья.
И как она сама выдерживала? Хоть бы слезинку уронила.
– Ну, хватит, – прошипел у него над ухом остролицый.
Дверь закрылась. Погасло свечение инкубатора, будто подули на свечу, и темнота позеленела. В ней вспыхивали изумрудные молнии, травяными стеблями извивались кишки и ползали зелёные младенцы, а Йенс плёлся сквозь неё, держась за глаза и чуть не теряя сознание от боли. Доппельгангер подталкивал его в спину.
А потом за окнами догорал закат, и пол ординаторской ходил ходуном, и стены пьяно шатались. Йенс лежал на кушетке, а Элькем суетился возле него с нашатырным спиртом и холодными компрессами.
– Ничего, ничего, пройдёт. Это всего лишь свет. У всех такое бывает. Я тоже в первый раз боялся, что ослепну, но на самом деле, всё не так страшно, как кажется.
– Страшно, – пробормотал Йенс.
После духоты «тёмного» крыла его знобило, и дышалось трудно, словно в лёгких осела пыль. В груди ныло... вроде ничего ужасного не произошло, но его не покидало тоскливое ощущение потери. Если бы не тот, остромордый, его встретил, а... Торика – да, так её зовут – какими удивительными красками расцвёл бы чужой мир!
Джессика мертва, её тело стало пеплом и упокоилось в земле. Дерево добралось до него корнями, выпило, обратило в листву... и та листва уже давно облетела. Мёртвые не воскресают. Но Торика, вылепленная в инкубаторе из органических отбросов, глины и лесного мусора, она – живая.
– Подождите, Хоффман, пока стемнеет, – наставлял Элькем, – надо пару дней избегать солнца. Даю вам отпуск до следующего вторника, посидите дома, обдумайте увиденное... Отдохните. Или написать до среды?
– Да, – выдавил Йенс.
Теперь он, по крайней мере, знает её имя. Это даёт некую власть... или иллюзию власти над человеком, надежду, что можно встать посреди ночной улицы и прокричать – и тебе откликнутся. Или написать письмо и оставить на карнизе «Остерглоке», где оно превратится в крохотный мокрый шарик, такой же, как десятки других. Умеют ли доппельгангеры читать?
Солнце зашло, и сумерки окутали город, как морская соль обволакивает остов затонувшего корабля. Выйдя из больницы, Йенс понял, что с его обожжёнными глазами что-то не так. Тьмы как ни бывало, а вместо неё по улицам расплескалось холодное молоко. Сначала он подумал, что выпал снег. Необычный для середины октября каприз природы, но случается и такое. Однако, нет – серебряно блестел ровный асфальт, голые стены и чистая мостовая гладко белели, на ветвях лип и тополей одинокие листья горели, как фонарики, вот только светлее от них не делалось.
Не то чтобы в белом мраке было легче видеть. Скорее, наоборот. Белизна – коварнее черноты – искажала контуры, растворяла цвета и топила мир в сплошной вязкой мути. Йенс брёл наугал, оскальзываясь в лужах, и звал Торику.
То-ри-ка... Как до-ре-ми... Три ноты, без которых не сложится ни одна мелодия. Он чертыхался, натыкаясь на фонарные столбы-невидимки, и вытягивал шею, пытаясь ослабшим зрением выхватить из тумана знакомый тонконогий силуэт. Йенс узнал бы её из миллиона – в любой одежде, в толпе, в темноте, и даже в этой манной каше – но улицы оставались пусты. Он и не заметил, как свернул на Банхофштрассе, просто едва уловимо изменился звук шагов – по брусчатке каблуки стучали глуше – и стало просторнее.
Под смутно-желтоватой вывеской стояла группа людей – или доппельгангеров? – в чём-то, напоминавшем древнеримские тоги. Йенс рванулся к ним, и чуть не расквасил нос о стекло. «Привет, парни! – сказал он манекенам. – Тут девушка не пробегала? Волосы, жаркие, как солнце, талия – в руку толщиной. Да, это жена моя. Эх, вы, дурачьё...». Теперь он без труда сориентировался. «Н & M», магазин молодёжной моды, соседнее здание – бывшая колбасная, а за ним – «Остерглоке».
Амбарный замок исчез. Из-под двери сочились голоса, шёпот и негромкая, отрывистая музыка.
– Торика! – снова позвал Йенс. – Ты здесь? Торика, пожалуйста...
Он подтянулся на карнизе, нечаянно уронив на землю с десяток «писем», подёргал крепко запертые ставни, но стальной шпингалет не сдвинулся ни на миллиметр.
– Пожалуйста... ты должна быть здесь...
Йенс распахнул дверь и ворвался в кафе. Там шарахнулись по углам тени, но Йенс, как ни вглядывался, ни в одной из них не признал свою любимую.
Тогда он вернулся на крыльцо и, присев на ступеньку, тихо заговорил. Он просил у Торики прощения – за свою тугоухость и неуклюжесть, за то, что любил вполсердца и переломал всё, что было хрупко. Слова, которые Джессике некогда приходилось вымаливать, теперь сами шли на язык. Жаль, что адресат их не слышал. А если и слышал, то не выдал себя. Слова пролились впустую и не принесли облегчения.
«Я видела, как он мечется, охваченный болью, и мысли его тянутся ко мне сквозь пустое пространство – яркие, будто разноцветные нити. Красные ниточки надежды, чёрные – обиды, и хрупкие золотые паутинки... любви? Глупости, бессмыслица, не может человек любить доппельгангера.
Я стояла у окна, завернувшись в занавеску, и Йенс прошёл совсем близко, повторяя моё имя. На меня дохнуло его отчаянием, но он не заметил меня».
Торика дернула плечом, и капля чернил, сорвавшись с конца пера, расползлась кляксой во всю строку. «Любовь» посинела, распухла, выпустила кривые лапки, точно уродливый паук. Оборвались паутинки надежды.
«В какой-то момент мне стало его жаль, настолько, что захотелось подойти, взять за руку и проводить домой, как заплутавшего в чужом городе ребенка. Но я сдержалась. У меня нет права вмешиваться в его жизнь. Ему не нужна такая, как я. Ему нужен человек, способный сострадать и заботиться. Люди умеют это гораздо лучше нас.
Он спешит, потому что скоро зима, но наши границы охраняет страх. В подземном Анде не бывает ни зимы, ни лета. Но это не значит, что я не чувствую смены времён года. Когда наверху осень – река темнеет, а в душе делается уныло и холодно. И облетают – пусть не листья, но бесполезные мысли и мечты, всё не написанное, не высказанное, не додуманное до конца. Я отпускаю жалость по течению реки...
Девятнадцатое октября. Андсдорф, Остерглоке».
продолжение следует...
Источник: проза.ру
Автор: Джон Маверик
Топ из этой категории
 Салон красоты у плиты
Салон красоты у плиты
Вам предстоит простоять у плиты, домашние заждались. Такая перспектива радует далеко не всех женщин. Но существуют...