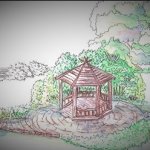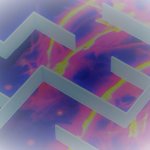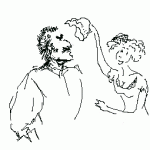Вольный город Парадиз

Книги / Необычное
Глава 1
Задачи у экспериментаторов бывают разные. Чаще – познавательные: доказать факты, выявить некую закономерность, порой совершенно бесполезную. У кого-то – благородные: вывести человечество из энергетического кризиса, найти панацею от рака, СПИДа или рассеянного склероза. У прочих – меркантильные: получить премию или грант, кафедру, известность, уважение коллег, да мало ли что. То, как Генрих Айстен объяснил цель своего преступного эксперимента, смутило собравшихся в зале суда.
– Я хотел сделать их несчастными, – заявил он, оборачивая вокруг пальца кисточку шарфа. Профильтрованный сквозь ткань голос казался глухим и лишенным оттенков. – Хотел создать мир несчастливых людей.
Судья – полноватая старая дева с барсучьим взглядом – удивленно вскинулась:
– Зачем? – и негромко, себе под нос, но так, что сидевшие близко все-таки услышали, добавила. – Разве не такой мир сотворил Бог?
То же самое подумали, хоть и не сказали вслух, мучимый астмой секретарь, и молоденькая адвокат, которую дома ждала оглохшая от скарлатины мать, и озабоченный выкрутасами сына-подростка прокурор, и Адели Райт, свидетельница по делу о вольном городе, восседавшая на скамье горько и торжественно, как грешница в церкви. Обвитая блестящими косами, точно живыми гадюками, она сидела, потупившись, и только веки ее вздрагивали при каждом слове Айстена.
Подсудимый оглядел притихший зал, и глаза его заволоклись скукой.
– Такой, – он посмотрел в окно, туда, где на цветущей ветке жасмина чирикала пара воробьев и каждый старался перекричать другого. Из распахнутой форточки наплывали резкие и привычные ароматы травы, машинного масла, тушеной капусты, жареного мяса и картошки с луком. Над крышами вился прозрачный детский смех. Издалека доносились лай собак и бодрая перекличка автомобильных гудков. – Такой, – повторил Айстен, – да не совсем.
На вопрос «зачем» он так и не ответил.
Да никто и не ждал от него ответа. Тайная боль Генриха Айстена, загрубевшая, словно кора векового дуба, уже покоились на судейском столе, препарированная, подшитая, рассортированная по кожаным папкам. Они и душу его подкололи бы и разложили, если бы только научились извлекать из тела эту легковесную субстанцию.
Генрих научился. По крайней мере, так он сам до недавнего времени считал.
Все началось, как рассказывал на следствии Айстен, когда, замученный июльской жарой, он случайно разбил пробирку с хаскалином. Аккуратный от природы и по-немецки педантичный, Генрих очень редко что-либо ронял, а уж с опасными препаратами обращался с двойной осторожностью. Про хаскалиновые отравления тогда много писали – правда, писали нечто смутно-пугливое, неясное, не называя симптомов. Имена жертв упоминали с той особой стыдливостью, с какой набрасывают на лицо трупа дымную кисею.
Химикат Айстен получил от старшего коллеги, Сержа Заславского, русского переселенца и человека странной репутации. Серж, или Сергей, как звал он сам себя, отсидел два месяца в тюрьме по подозрению в убийстве. Маленькую Эмилию Рефриджерайтес, ребенка из эмигрантской семьи, обнаружили задушенной в местном лесопарке, с обвитым вокруг горла полосатым галстуком, точь-в-точь таким, какой коллеги прежде нередко видели на Заславском. Впрочем, его вина так и не была доказана.
Когда-то блестящий ученый, Серж страдал мучительным психическим расстройством – дисморфофобией, избегал зеркал, медленно и неприметно спивался и после трех стопок водки рассказывал о каком-то несчастном случае и собственном чудовищном уродстве. Уродлив он, впрочем, не был, а только худ и некрасив. Седая шевелюра ежиком. Две узкие залысины, как прогалины в осеннем лесу. Тяжелый подбородок. Глаза мутные – со слезой. Неправильный прикус – нижние зубы чуть заметно выступали вперед, что придавало его лицу обиженно-упрямое выражение.
Пробирку с хаскалином он передал Генриху дрожащей рукой.
– А чем вы с ним, собственно, занимались? – поинтересовался следователь.
– Был один проект, – отмахнулся тот. – Химическое зомбирование. Препараты, подавляющие волю. Я не могу об этом много говорить. Тестировали в домашних лабораториях, потому что в университете секретность считалась недостаточной.
– А хаскалин?
– Заславский предупредил меня, что вещество опасно, да я и сам знал. Но расслабился: стояла жуткая жара. Кондиционер не работал. Лаборатория была устроена так, что воздух очень плохо вентилировался... Случайность, да.
Полная зеркал и передвижных стен, квартира Генриха напоминала сверкающий лабиринт. Воздух в нем и правда почти не циркулировал. Зато свет, многократно отраженный, усиливался до знойного марева и с рассвета до заката метался среди пробирок и колб. По вечерам на поверхности зеркал выступала сладковатая роса. Достаточно бывало слизнуть одну каплю такого солнечного конденсата, чтобы всю ночь видеть лучезарные сны.
Айстен работал босиком – кафельные плитки приятно освежали ступни. Прохлада поднималась вверх по ногам, добиралась до живота, усмиряя инстинкты, но голова и сердце все равно оставались горячими, и не только из-за жары. Он был влюблен. Адели, профессорская дочка, младше Генриха на пять лет и наивнее на целое столетие. Нежная девушка с картин Моне. Чистый лоб ребенка, словно омытый луной, платья с оборками – пенистые и воздушные. Маленькие ножки в красных башмачках и стан гибкий, как ее косы. Смеясь, она жмурилась по-кошачьи, а когда называла его по имени, в голосе звенели медные колокольчики.
Размечтавшись, Генрих сам не понял, как из потных пальцев выскользнула пробирка. Яркие осколки брызнули ему под ноги, кусок стекла царапнул мизинец. Айстен чертыхнулся. Пролитая жидкость стоила дорого. Заславский, скорее всего, потребует от него возместить ущерб из собственного кармана. Вдобавок саднило пораненный палец.
Айстен вынул из шкафа другую пробирку, собираясь продолжить опыт. Поставил ее в штатив. Включил газовую горелку и сразу погасил. Потом принес из чулана веник и подмел пол, зачем-то выбросив мусор в унитаз. Его действия стали хаотичными, а мысли точно свернулись в резиновые жгуты. Генрих не без труда доковылял до спальни – а спал он прямо в лаборатории, в неглубокой, отгороженной занавеской нише – и прилег на диван.

Лихорадка, испарина, ломота в костях – особенно сильно болела нижняя челюсть. Толстый, как беличий хвост, язык запал в гортань и при каждом вдохе проваливался все глубже. Страха почему-то не было. Только острая, почти непереносимая тошнота, от которой мышцы сводило судорогой, а на ладонях выступал зловонный пот.
Сон перепутался с явью. Генрих то скрипел зубами, в отчаянии обнимая подушку, то карабкался по пожарной лестнице на высотный дом, заглядывая во все окна. В одной из квартир сидели за накрытым столом супруги Рефриджерайтес. Убранная цветами комната смахивала на свадебный торт. По буфету и подоконнику змеились вялые плети гераней, оплетали ножки стульев, притолоки и латунную люстру. Айстен задержал дыхание и подтянулся на карнизе. В ту же минуту дверь распахнулась и вошла бледная девочка с волосами цвета мокрого песка, перехваченными синей лентой. Айстен видел ее только раз, на газетной фотографии, но тотчас узнал, потому что в сновидении детали отчетливее, а суть обнажена. Иногда стоит взглянуть на человека, чтобы понять, кто он. А посмотришь чуть иначе – и перед тобой кто-то совсем другой. Люди вложены друг в друга, подобно матрешкам, и чем пристальнее вглядываешься, тем больше странного в них открывается. Ни слова не говоря, Эмилия углубилась в комнату и встала спиной к окну – в ее движениях и позе ощущалось нечто сомнамбулическое.
– Хорошо, что ты здесь, малышка, – сказала госпожа Рефриджерайтес, не поворачивая головы. – Сегодня день рождения Реджинальда, и я убрала комнату цветами к его приходу. Твой брат любит цветы. Наконец-то мы снова соберемся вместе – уютно, по-семейному.
«Ерунда какая-то, она же умерла два года назад», – подумал Айстен и, не выпуская из рук карниза, поднялся еще на одну ступеньку. Лестница под ним зашаталась.
– Я пришла отомстить своему убийце, – возразила девочка, – и всем его друзьям.
В ее правой руке стеклянно блеснуло. Генрих оцепенел: стиснутый в детском кулачке предмет показался ему как две капли воды похожим на не далее как сегодня разбитую пробирку со светло-зеленой жидкостью. Он почувствовал, что теряет равновесие, и, пытаясь задержать падение, стал хвататься за оконное стекло.
Гладкая поверхность заструилась трещинами, поплыла и со звоном раскололась. Айстен точно поскользнулся на тонком льду. Супруги, как по команде, обернулись. Госпожа Рефриджерайтес вскрикнула. Он прочел в их взглядах злость и отвращение, увидел, как девочка размахивается и кидает в него пробирку. Словно плевок – удар в середину лба, между бровей... боль... глухой, маслянистый всплеск...
«Я-то в чем виноват?» – пробормотал Генрих. Он снова лежал на диване, в спальной нише, испуганный и очарованный видением, почему-то твердо уверенный, что его прокляли.
Пока Айстен спал, на улице стемнело и зеркала погасли. Потухла малиновая полоска неба за окном, только бутылочки в шкафах мерцали студено и мутно.
«При чем тут я? – повторил он, обращаясь к растворенному в темноте призраку Эмилии Рефриджерайтес. – Я никого не убивал, а твой брат – мой хороший друг».
Он преувеличивал, потому что другом Реджинальда никогда не считал, и даже приятелем, а просто мальчишкой, который все время путался под ногами. Студентик, щенок... нет, птенец, только-только встающий на крыло. Совсем никуда не годный, пока не придет беда. Очень редко, но случается, что как раз такого человека хочется иметь рядом. Бессловесного.
Айстен нашарил на стене выключатель. Резкий свет ударил в глаза – точно кислотой плеснул. Родная, знакомая, как собственная ладонь, комната в одночасье сделалась страшнее больничной палаты. Генрих провел мокрой рукой по лицу, точно смывая паутину – с лицом было что-то не так.
Он сидел, зажмурившись и обливаясь потом, и ощупывал себя: лоб, холодный и влажный, липкие волосы, нос с маленькой горбинкой. Почти прямой, не по-женски – утонченно изящный, а именно прямой – по-мужски. Над верхней губой – колкая щеточка усов, молодых и робких, как весенняя трава. Ниже начинался бред. Угловатый, гротескный, нечеловеческий бред.
Выпяченный подбородок. Челюсть – как открытый спичечный коробок. Длинные, слегка изогнутые – по-кабаньи – клыки, такие острые, что Генрих чуть не поранил о них пальцы.
Осязание – ненадежное чувство. Человек привык доверять глазам, но и не подтвержденная зрением перемена казалась нереально чудовищной, бросала вызов разуму.
Айстен вскочил, нетерпеливо отдернул занавеску и тут же отразился сразу в трех зеркалах. Он не закричал – крик пролился внутрь. Застыл, опустив руки, сгорбился – воплощение инфернального ужаса. Чем бы ни было проклятие Эмилии Рефриджерайтес, оно его настигло и подвело к порогу, за которым царила пустота.
Общество благоволит к увечным, сострадает обезображенным или уродливым от природы, но как жить среди людей, когда твое лицо – воплощение их ночных кошмаров? Такое уродство не скроешь под маской. Оно – в противоположность красоте – разрушает мир, и мир исторгает его из себя.
Все это Айстен понял, и совершенное им в ту ночь не было результатом импульсивной агрессии либо истерики, а точно рассчитанным, осознанным актом вандализма. К утру в лаборатории не осталось ни одного зеркала. Солнечный лабиринт лежал у ног мстительного аутсайдера. Сам же хозяин, отшвырнув орудие казни – табуретку скорчился в углу дивана, притихший и почти умиротворенный, погруженный в раздумья. Свет, ни от чего более не отражаясь, струился гладким потоком, танцевал над грудой осколков, гнал по стенам крошечные песочные волны. Неуловимо солоно пахло от лабораторных столов и расставленных по шкафам баночек с реактивами. В комнате царила влажная духота тропического моря.
Не торопясь, основательно и кропотливо, Айстен разбирал по кусочкам свою внутреннюю вселенную и снова складывал – иначе. Как опытный хирург или портной, хладнокровно кромсал, перекраивал желания и планы. В результате тонкой, мучительной работы, на грани вивисекции, рождалась душа-франкенштейн, готовая пройти по всем кругам ада и провести за собой других.
Весь день он просидел взаперти, а когда темнеющий город окутался призрачной сетью огней, вскочил и, повязав нижнюю часть лица шарфом, сунул в карман бумажник – и навсегда покинул дом.
Он шагал по черной улице, а над головой раскинулся целый небосклон рукотворных звезд. Чужие окна, родные окна... Некоторые сияли ярче, иные слабее. Третьи лишь слегка теплились сквозь туманный флер занавесок. Вон там – любимая, здесь – друг. Приятели, учителя, коллеги... Кого просить о помощи? Кому довериться?
«Столько звезд на небе, – припомнились Генриху слова из давно позабытой книжки, – и ни одна – не твоя».
Продолжение следует...
Задачи у экспериментаторов бывают разные. Чаще – познавательные: доказать факты, выявить некую закономерность, порой совершенно бесполезную. У кого-то – благородные: вывести человечество из энергетического кризиса, найти панацею от рака, СПИДа или рассеянного склероза. У прочих – меркантильные: получить премию или грант, кафедру, известность, уважение коллег, да мало ли что. То, как Генрих Айстен объяснил цель своего преступного эксперимента, смутило собравшихся в зале суда.
– Я хотел сделать их несчастными, – заявил он, оборачивая вокруг пальца кисточку шарфа. Профильтрованный сквозь ткань голос казался глухим и лишенным оттенков. – Хотел создать мир несчастливых людей.
Судья – полноватая старая дева с барсучьим взглядом – удивленно вскинулась:
– Зачем? – и негромко, себе под нос, но так, что сидевшие близко все-таки услышали, добавила. – Разве не такой мир сотворил Бог?
То же самое подумали, хоть и не сказали вслух, мучимый астмой секретарь, и молоденькая адвокат, которую дома ждала оглохшая от скарлатины мать, и озабоченный выкрутасами сына-подростка прокурор, и Адели Райт, свидетельница по делу о вольном городе, восседавшая на скамье горько и торжественно, как грешница в церкви. Обвитая блестящими косами, точно живыми гадюками, она сидела, потупившись, и только веки ее вздрагивали при каждом слове Айстена.
Подсудимый оглядел притихший зал, и глаза его заволоклись скукой.
– Такой, – он посмотрел в окно, туда, где на цветущей ветке жасмина чирикала пара воробьев и каждый старался перекричать другого. Из распахнутой форточки наплывали резкие и привычные ароматы травы, машинного масла, тушеной капусты, жареного мяса и картошки с луком. Над крышами вился прозрачный детский смех. Издалека доносились лай собак и бодрая перекличка автомобильных гудков. – Такой, – повторил Айстен, – да не совсем.
На вопрос «зачем» он так и не ответил.
Да никто и не ждал от него ответа. Тайная боль Генриха Айстена, загрубевшая, словно кора векового дуба, уже покоились на судейском столе, препарированная, подшитая, рассортированная по кожаным папкам. Они и душу его подкололи бы и разложили, если бы только научились извлекать из тела эту легковесную субстанцию.
Генрих научился. По крайней мере, так он сам до недавнего времени считал.
Все началось, как рассказывал на следствии Айстен, когда, замученный июльской жарой, он случайно разбил пробирку с хаскалином. Аккуратный от природы и по-немецки педантичный, Генрих очень редко что-либо ронял, а уж с опасными препаратами обращался с двойной осторожностью. Про хаскалиновые отравления тогда много писали – правда, писали нечто смутно-пугливое, неясное, не называя симптомов. Имена жертв упоминали с той особой стыдливостью, с какой набрасывают на лицо трупа дымную кисею.
Химикат Айстен получил от старшего коллеги, Сержа Заславского, русского переселенца и человека странной репутации. Серж, или Сергей, как звал он сам себя, отсидел два месяца в тюрьме по подозрению в убийстве. Маленькую Эмилию Рефриджерайтес, ребенка из эмигрантской семьи, обнаружили задушенной в местном лесопарке, с обвитым вокруг горла полосатым галстуком, точь-в-точь таким, какой коллеги прежде нередко видели на Заславском. Впрочем, его вина так и не была доказана.
Когда-то блестящий ученый, Серж страдал мучительным психическим расстройством – дисморфофобией, избегал зеркал, медленно и неприметно спивался и после трех стопок водки рассказывал о каком-то несчастном случае и собственном чудовищном уродстве. Уродлив он, впрочем, не был, а только худ и некрасив. Седая шевелюра ежиком. Две узкие залысины, как прогалины в осеннем лесу. Тяжелый подбородок. Глаза мутные – со слезой. Неправильный прикус – нижние зубы чуть заметно выступали вперед, что придавало его лицу обиженно-упрямое выражение.
Пробирку с хаскалином он передал Генриху дрожащей рукой.
– А чем вы с ним, собственно, занимались? – поинтересовался следователь.
– Был один проект, – отмахнулся тот. – Химическое зомбирование. Препараты, подавляющие волю. Я не могу об этом много говорить. Тестировали в домашних лабораториях, потому что в университете секретность считалась недостаточной.
– А хаскалин?
– Заславский предупредил меня, что вещество опасно, да я и сам знал. Но расслабился: стояла жуткая жара. Кондиционер не работал. Лаборатория была устроена так, что воздух очень плохо вентилировался... Случайность, да.
Полная зеркал и передвижных стен, квартира Генриха напоминала сверкающий лабиринт. Воздух в нем и правда почти не циркулировал. Зато свет, многократно отраженный, усиливался до знойного марева и с рассвета до заката метался среди пробирок и колб. По вечерам на поверхности зеркал выступала сладковатая роса. Достаточно бывало слизнуть одну каплю такого солнечного конденсата, чтобы всю ночь видеть лучезарные сны.
Айстен работал босиком – кафельные плитки приятно освежали ступни. Прохлада поднималась вверх по ногам, добиралась до живота, усмиряя инстинкты, но голова и сердце все равно оставались горячими, и не только из-за жары. Он был влюблен. Адели, профессорская дочка, младше Генриха на пять лет и наивнее на целое столетие. Нежная девушка с картин Моне. Чистый лоб ребенка, словно омытый луной, платья с оборками – пенистые и воздушные. Маленькие ножки в красных башмачках и стан гибкий, как ее косы. Смеясь, она жмурилась по-кошачьи, а когда называла его по имени, в голосе звенели медные колокольчики.
Размечтавшись, Генрих сам не понял, как из потных пальцев выскользнула пробирка. Яркие осколки брызнули ему под ноги, кусок стекла царапнул мизинец. Айстен чертыхнулся. Пролитая жидкость стоила дорого. Заславский, скорее всего, потребует от него возместить ущерб из собственного кармана. Вдобавок саднило пораненный палец.
Айстен вынул из шкафа другую пробирку, собираясь продолжить опыт. Поставил ее в штатив. Включил газовую горелку и сразу погасил. Потом принес из чулана веник и подмел пол, зачем-то выбросив мусор в унитаз. Его действия стали хаотичными, а мысли точно свернулись в резиновые жгуты. Генрих не без труда доковылял до спальни – а спал он прямо в лаборатории, в неглубокой, отгороженной занавеской нише – и прилег на диван.

Лихорадка, испарина, ломота в костях – особенно сильно болела нижняя челюсть. Толстый, как беличий хвост, язык запал в гортань и при каждом вдохе проваливался все глубже. Страха почему-то не было. Только острая, почти непереносимая тошнота, от которой мышцы сводило судорогой, а на ладонях выступал зловонный пот.
Сон перепутался с явью. Генрих то скрипел зубами, в отчаянии обнимая подушку, то карабкался по пожарной лестнице на высотный дом, заглядывая во все окна. В одной из квартир сидели за накрытым столом супруги Рефриджерайтес. Убранная цветами комната смахивала на свадебный торт. По буфету и подоконнику змеились вялые плети гераней, оплетали ножки стульев, притолоки и латунную люстру. Айстен задержал дыхание и подтянулся на карнизе. В ту же минуту дверь распахнулась и вошла бледная девочка с волосами цвета мокрого песка, перехваченными синей лентой. Айстен видел ее только раз, на газетной фотографии, но тотчас узнал, потому что в сновидении детали отчетливее, а суть обнажена. Иногда стоит взглянуть на человека, чтобы понять, кто он. А посмотришь чуть иначе – и перед тобой кто-то совсем другой. Люди вложены друг в друга, подобно матрешкам, и чем пристальнее вглядываешься, тем больше странного в них открывается. Ни слова не говоря, Эмилия углубилась в комнату и встала спиной к окну – в ее движениях и позе ощущалось нечто сомнамбулическое.
– Хорошо, что ты здесь, малышка, – сказала госпожа Рефриджерайтес, не поворачивая головы. – Сегодня день рождения Реджинальда, и я убрала комнату цветами к его приходу. Твой брат любит цветы. Наконец-то мы снова соберемся вместе – уютно, по-семейному.
«Ерунда какая-то, она же умерла два года назад», – подумал Айстен и, не выпуская из рук карниза, поднялся еще на одну ступеньку. Лестница под ним зашаталась.
– Я пришла отомстить своему убийце, – возразила девочка, – и всем его друзьям.
В ее правой руке стеклянно блеснуло. Генрих оцепенел: стиснутый в детском кулачке предмет показался ему как две капли воды похожим на не далее как сегодня разбитую пробирку со светло-зеленой жидкостью. Он почувствовал, что теряет равновесие, и, пытаясь задержать падение, стал хвататься за оконное стекло.
Гладкая поверхность заструилась трещинами, поплыла и со звоном раскололась. Айстен точно поскользнулся на тонком льду. Супруги, как по команде, обернулись. Госпожа Рефриджерайтес вскрикнула. Он прочел в их взглядах злость и отвращение, увидел, как девочка размахивается и кидает в него пробирку. Словно плевок – удар в середину лба, между бровей... боль... глухой, маслянистый всплеск...
«Я-то в чем виноват?» – пробормотал Генрих. Он снова лежал на диване, в спальной нише, испуганный и очарованный видением, почему-то твердо уверенный, что его прокляли.
Пока Айстен спал, на улице стемнело и зеркала погасли. Потухла малиновая полоска неба за окном, только бутылочки в шкафах мерцали студено и мутно.
«При чем тут я? – повторил он, обращаясь к растворенному в темноте призраку Эмилии Рефриджерайтес. – Я никого не убивал, а твой брат – мой хороший друг».
Он преувеличивал, потому что другом Реджинальда никогда не считал, и даже приятелем, а просто мальчишкой, который все время путался под ногами. Студентик, щенок... нет, птенец, только-только встающий на крыло. Совсем никуда не годный, пока не придет беда. Очень редко, но случается, что как раз такого человека хочется иметь рядом. Бессловесного.
Айстен нашарил на стене выключатель. Резкий свет ударил в глаза – точно кислотой плеснул. Родная, знакомая, как собственная ладонь, комната в одночасье сделалась страшнее больничной палаты. Генрих провел мокрой рукой по лицу, точно смывая паутину – с лицом было что-то не так.
Он сидел, зажмурившись и обливаясь потом, и ощупывал себя: лоб, холодный и влажный, липкие волосы, нос с маленькой горбинкой. Почти прямой, не по-женски – утонченно изящный, а именно прямой – по-мужски. Над верхней губой – колкая щеточка усов, молодых и робких, как весенняя трава. Ниже начинался бред. Угловатый, гротескный, нечеловеческий бред.
Выпяченный подбородок. Челюсть – как открытый спичечный коробок. Длинные, слегка изогнутые – по-кабаньи – клыки, такие острые, что Генрих чуть не поранил о них пальцы.
Осязание – ненадежное чувство. Человек привык доверять глазам, но и не подтвержденная зрением перемена казалась нереально чудовищной, бросала вызов разуму.
Айстен вскочил, нетерпеливо отдернул занавеску и тут же отразился сразу в трех зеркалах. Он не закричал – крик пролился внутрь. Застыл, опустив руки, сгорбился – воплощение инфернального ужаса. Чем бы ни было проклятие Эмилии Рефриджерайтес, оно его настигло и подвело к порогу, за которым царила пустота.
Общество благоволит к увечным, сострадает обезображенным или уродливым от природы, но как жить среди людей, когда твое лицо – воплощение их ночных кошмаров? Такое уродство не скроешь под маской. Оно – в противоположность красоте – разрушает мир, и мир исторгает его из себя.
Все это Айстен понял, и совершенное им в ту ночь не было результатом импульсивной агрессии либо истерики, а точно рассчитанным, осознанным актом вандализма. К утру в лаборатории не осталось ни одного зеркала. Солнечный лабиринт лежал у ног мстительного аутсайдера. Сам же хозяин, отшвырнув орудие казни – табуретку скорчился в углу дивана, притихший и почти умиротворенный, погруженный в раздумья. Свет, ни от чего более не отражаясь, струился гладким потоком, танцевал над грудой осколков, гнал по стенам крошечные песочные волны. Неуловимо солоно пахло от лабораторных столов и расставленных по шкафам баночек с реактивами. В комнате царила влажная духота тропического моря.
Не торопясь, основательно и кропотливо, Айстен разбирал по кусочкам свою внутреннюю вселенную и снова складывал – иначе. Как опытный хирург или портной, хладнокровно кромсал, перекраивал желания и планы. В результате тонкой, мучительной работы, на грани вивисекции, рождалась душа-франкенштейн, готовая пройти по всем кругам ада и провести за собой других.
Весь день он просидел взаперти, а когда темнеющий город окутался призрачной сетью огней, вскочил и, повязав нижнюю часть лица шарфом, сунул в карман бумажник – и навсегда покинул дом.
Он шагал по черной улице, а над головой раскинулся целый небосклон рукотворных звезд. Чужие окна, родные окна... Некоторые сияли ярче, иные слабее. Третьи лишь слегка теплились сквозь туманный флер занавесок. Вон там – любимая, здесь – друг. Приятели, учителя, коллеги... Кого просить о помощи? Кому довериться?
«Столько звезд на небе, – припомнились Генриху слова из давно позабытой книжки, – и ни одна – не твоя».
Продолжение следует...
Источник: проза.ру
Автор: Джон Маверик
Топ из этой категории